
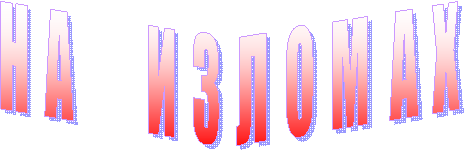
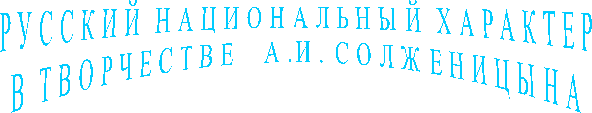
История России ХIХ–ХХ веков: Новые источники понимания /
Под ред. С.С. Секиринского. М., 2001. С. 180–189
Солженицыну “тесно” в литературе. Так было бы, наверное,
тесно в пределах художественной условности, знай он их, Нестору, автору “Повести
временных лет”. Аналогия с древнерусской литературой, как нам представляется,
может не только показать исключительный масштаб его фигуры в контексте русской
словесности, но и специфику его творчества — синкретизм. Литература дает ему
средства поставить и разрешить проблемы экстралитературные: исторические,
политические, культурологические, философские и социальные. Предметом его
исследования стала русская действительность ХХ века. Можно допустить, что
русские люди следующего столетия будут знать историю по эпосу Солженицына, а не
по учебникам. Его творчество дает материал для профессионального познания не
только филологу, но и историку, культурологу, социологу… В его эпосе содержится
достоверное свидетельство о русской судьбе ХХ века, равного которому по
масштабности, наверное, еще не знала русская мысль.
Синкретизм как творческая доминанта определяет специфику
художественности его произведений. Классический роман (нелюбимое жанровое определение
писателя) или повесть не выдерживали чрезмерной смысловой нагрузки, поэтому
после “В круге первом” и “Ракового корпуса” Солженицын создает новую крупную
жанровую форму, с явным преобладанием документального материала — “Узлы” эпопеи
“Красное Колесо”. При этом включение в повествовательную структуру авторской
публицистики, прямое выражение авторской позиции по политическим и историософским
проблемам, столь нехарактерное для реалистической русской прозы последних двух
столетий, соседствует с традиционными для романиста формами психологического
анализа, объектами которого выступают реальные политические деятели,
определявшие судьбы России, так и вполне заурядные граждане.
Думается, что определение специфики художественной стороны
творчества Солженицына — актуальная задача будущего, стоящая перед филологией.
Без ее решения не сможет быть создана объективная история русской литературы ХХ
века. Приступая к ней, необходимо понять, какие творческие задачи ставил перед
собой писатель, обращаясь к новым художественным формам.
Одна из таких задач, реализованных в эпосе Солженицына, была
предопределена предметом изображения. В его творчестве создана целая характерология
русской жизни первой половины ХХ века. Предметом исследования стал русский
национальный характер в его разных личностно-индивидуальных проявлениях,
охватывающих практически все слои русского общества в переломные моменты его
бытия: политический Олимп, генералитет, дипломатический корпус, карательные
аппараты, служащие разным режимам, советские заключенные, лагерные
надсмотрщики, крестьяне антоновской армии, советский партаппарат разных
десятилетий… Солженицын прослеживает изменения русской ментальности, показывает
процесс мучительной ломки национального сознания. Можно сказать, что русский
характер запечатлен им в процессе деформаций.
Эпос Солженицына дает материал для исследования конкретных
форм этих деформаций и условий, приведших к ним. Принято считать, что это
условия политические. Действительно, трудно найти писателя столь явно
политизированного, сделавшего предметом художественного исследования документальное
воспроизведение политических событий Августа Четырнадцатого или Апреля
Семнадцатого. Но нам представляется, что энциклопедический по объему
исторический материал нуждается не только в политическом осмыслении (оно, в
частности, предложено самим Солженицыным, не желающим “переваливать работу
исследования с автора на читателя”
[1]),
сколько в онтологическом и социокультурном. В конечном итоге, в реальных
исторических лицах, ставших героями “Красного колеса”, таких как Ленин или
Столыпин, и в характерах вымышленных, как Иван Денисович или дипломат Володин
(“В круге первом”), Солженицын представляет грани национального характера, сформированного
предшествующей историей и обусловившего историю нашего столетия. В сущности,
весь эпос Солженицына можно рассмотреть как уникальный материал по русской
характерологии, требующий научного осмысления со стороны ученых,
профессионально связанных с той областью знания, которая определяется как
“русская идея”. Мы имеем дело не только с корпусом художественных текстов,
принадлежащих одному писателю, но с уникальным свидетельством о русской судьбе,
характере, сознании, запечатленных в “узловых точках” исторического процесса ХХ
века.
“Большевики перекипятили русскую кровь на огне”, -приводит
Солженицын слова Б. Лавренева, — и это ли не изменение, не полный пережог
народного характера?!”
[2]
Изменение, совершенное целенаправленно и вполне в прагматических целях: “А
большевики-то быстро взяли русский характер в железо и направили работать на себя”
(“Россия в обвале”, с. 170). Очевидно, что одной из самых чудовищных форм
“перекипячения” русской крови стал архипелаг ГУЛАГ, выросший из страны и сделавший
ее своей частью.
“Архипелаг ГУЛаг” как опыт художественного исследования включает
в себя и эту проблематику — показывает, как перекипала русская кровь. Писатель
фиксирует оскудение народной нравственности, проявившееся в озлоблении и
ожесточении людей, замкнутости и подозрительности, ставшей одной из доминант
национального характера. И находит этому вполне естественные объяснения. Однако
для читателя, индивидуальное становление которого пришлось уже на другую эпоху,
существуют вещи, оказывающиеся выше разумения.
Одна из них — безусловное нравственное и интеллектуальное
превосходство узников Архипелага над надсмотрщиками и тюремщиками. Его населяли
лучшие — самые талантливые, самые думающие, не сумевшие или не успевшие
усредниться, или же в принципе неспособные к усреднению. В чем состояла
необходимость селекции худшего и искоренения лучшего? Зачем власти нужна была
отрицательная селекция национального характера: “легкое торжество низменных
людей над благородными кипело черной вонючей мутью в столичной тесноте, — но и
под арктическими честными вьюгами, на полярных станциях <…> зловонило оно
и там” (“Архипелаг ГУЛаг”, т. 2, с. 596)? В чем истоки этого легкого
торжества низменных над благородными? Дает ли Солженицын ответ на этот вопрос?
Кроме того, вглядываясь в контуры “Архипелага”, очерченные
Солженицыным, человек постсоветской эпохи не может не задуматься о бессмысленной
изощренности его индустрии и не удивиться вместе с автором: зачем, скажем,
нужна была столь многообразная система арестов с их избыточной выдумкой, сытой
энергией, а жертва не сопротивлялась бы и без этого: “Ведь кажется достаточно
разослать всем намеченным кроликам повестки — и они сами в назначенный час и
минуту покорно явятся с узелком к черным железным воротам госбезопасности,
чтобы занять участок пола в намеченной для них камере” (“Архипелаг ГУЛаг”, т. 1,
с. 22). Поражает и заставляет думать бессмысленная, казалось бы,
изобретательность тюремщиков, создавших целую науку “тюрьмоведения”. Заставляет
задуматься безропотность арестантов 30-х годов и столь небольшой объем
литературы о национальном сопротивлении режиму и почти полную неосмысленность
современным литературно-критическим сознанием произведений о сопротивлении,
таких как “Белые одежды” В. Дудинцева или “Последний бой майора Пугачева”
В.Шаламова. Все факты бессмысленной растраты национальной энергии на создание
индустрии ГУЛага (изощренность арестов, многообразие этапов, хитроумность
“шмонов”, садистская изобретательность пыточного следствия и все-все подобное,
о чем свидетельствует автор “Архипелага”), существующей для еще более бессмысленной
и нерачительной даже с экономической точки зрения растраты народных сил
свидетельствуют о некой национальной катастрофе, национальном поражении разума.
Солженицын воспроизводит картину самоуничтожения нации, когда одна ее часть
создала индустрию для уничтожения другой ее части, причем машина уничтожения
оказалась сильнее ее создателей, захватывая в свои шестерни всех, и их самих в
том числе.
Поиски ответа на эти вопросы заставляет обратиться к
прошлому. Переживала ли Россия когда-либо нечто подобное? Думается, что да — вспомнить
Грозного, страшное помело опричнины, выметавшее целые деревни и города. Именно
Грозный воздвиг не только страшные застенки, где хозяйничал Малюта Скуратов, но
и уничтожил Новгород, превратил палачество в атрибут государственной жизни,
собрав вокруг себя целый класс таких же палачей — профессионалов и любителей. А
Петр, строящий на костях Петербург и превращающий в рабов литейных заводов
русских крестьян? Кажется, что это какая-то роковая особенность русской истории
с мерцающими в ней эпизодами самоистребления нации — то в великой смуте ХVII века или в гражданской
войне нашего столетия, то по прихоти тирана — Ивана, Петра, Ленина, Сталина.
При этом периоды тирании находятся во внутренней связи между собой: их
объединяет страшная жестокость, внешняя бессмысленность и мгновенное разделение
нации на две группы: палачей и жертв (возможен, правда, переход некоторых личностей
из одной группы в другую). При этом периоды национального самоуничтожения
сменяются периодами относительной стабилизации, когда народ как бы
восстанавливает подорванные силы — для чего? Страшно подумать — не для новой ли
опричнины? Уникален в этом смысле наш век, почти не давший отдыха:
“советско-германская война и наши небереженные в ней, несчитанные потери, — они,
вослед внутренним уничтожениям, надолго подорвали богатырство русского народа —
может быть, на столетие вперед. Отгоним от себя мысль, что — и навсегда” (“Россия
в обвале”, с. 171).
Кажется, что Солженицын, рассказывая об Архипелаге и о своем
противостоянии Системе, просто воспроизводит один из ритмических тактов русской
истории, показывая проявления общего в социальной конкретике нашего столетия. А
общим этим оказывается, по словам Солженицына, “селективный противоотбор,
избирательное уничтожение всего яркого, отметного, что выше уровнем”, “подъем и
успех худших личностей” (“Россия в обвале”, с. 170–171). Иными словами, по
терминологии Льва Гумилева, в нашем столетии в очередной раз проявилась в
русской истории “система негативной экологии”, “антисистема — системная целостность
людей с негативным мироощущением, выработавшая общее для своих членов
мировоззрение”
[3],
стремящаяся к упрощению Бытия вплоть до его уничтожения. В историко-философских
трудах Льва Гумилева подробно описан особый культурный феномен, который он
называет химерической культурой или химерой. В нем “господствует бессистемное
сочетание несовместимых между собой поведенческих черт, на место единой
ментальности приходит полный хаос царящих в обществе вкусов, взглядов и
представлений”
[4],
что создает “характерную для химеры обстановку всеобщей извращенности и
неприкаянности”. Формируется "система негативной экологии", стремящаяся "к
уничтожению всего живого, всего прекрасного", к "аннигиляции культуры и природы".
Размышляя об общих особенностях антисистемы, Л. Гумилев
говорит, что их роднит одна общая черта — "жизнеотрицание, выражающееся в том,
что истина и ложь не противопоставляются, а приравниваются друг другу <…> ложь
равна истине, и можно в своих целях использовать ту и другую"
[5].
Здесь кроется основополагающая черта любой антисистемы: подвижность
нравственных категорий, размытость моральных норм, неопределенность добра и
зла. Химерическая культура предопределяет как бы зеркальность всех элементов,
способность их к замещению друг друга.
Здесь кроется ментальная предпосылка революционности как принципа
отношения к миру. "Все антисистемные идеологии и учения объединяются одной
центральной установкой: они отрицают реальный мир в его сложности и многообразии
во имя тех или иных абстрактных целей"
[6].
В сознании, искаженном антисистемой, формируется особый "поведенческий синдром,
при котором появляется потребность уничтожать природу и культуру", что
заставляет "искать выхода при помощи строгой логики и оправдывать свою
ненависть к миру, устроенному так неудобно.” Такой человек утрачивает
способность к различению добра и зла, верха и низа, сакрального и профанного. "Гуманизм"
может обернуться жестокостью, сострадание — убийством, а жалость вытеснена
псевдологикой. Тогда насилие и убийство воспринимаются как проявление гуманности
и высшей социальной необходимости. Подобные логические построения знала ранняя
советская проза в лице, скажем, Либединского и Аросева. Эта же логика видится в
"концепции гуманизма" в фадеевском "Разгроме", оправдывающей убийство и насилие
высшей социальной необходимостью; в рапповской концепции личности "живого
человека", лефовском "отчетливо функционирующем человеке", в голой абстракции
Пролеткульта, предлагающей вместо имени цифровой или буквенный номер. Все это,
как и множество других исторических и литературных фактов, говорит о том, что
события русской истории 20–50-х годов могут быть осмыслены как результат
деятельности антисистемы.
Творчество Солженицына представляет собой антологию сложившейся
в советское время антисистемы. “Архипелаг ГУЛаг” являет опыт художественного
исследования механизма этой антисистемы и ее эволюции.
Если принять подобную точку зрения, то она может объяснить
сознание тех, кто властвовал Архипелагом, кто положил свою жизнь на то, чтобы
быть надсмотрщиками над аборигенами ГУЛАГа, выбравши добровольно “псовую
службу” — лагерщиков. В результате целенаправленной селекции этого слоя и
создавалось у них химерическое сознание, которое Гумилев мог анализировать в
тех же условиях, что и Солженицын — в ГУЛаге. “Пострадало от них, — пишет
Солженицын, — миллионов людей куда больше, чем от фашистов, — да ведь не
пленных, не покоренных, а — своих соотечественников, на родной земле. Кто нам
это объяснит?” (“Архипелаг ГУЛаг”, т. 2, с. 496).
Воспитание целого слоя таких людей было одним из результатов
сложившейся химеры. Так это объяснял еще задолго до появления историософии Л. Гумилева
Иван Ильин: "В прежние времена люди хотели власти и богатства — и из-за этого
впадали в преступления и злодеяния. В наше время коммунисты, добившись власти и
богатства, заняты истреблением лучших людей страны <…>; они поставили
себе задачу — уничтожить всех, кто мыслит не по-коммунистически, кто верует
религиозно, кто любит родину; и оставить только своих рабов. Для этого они
выдрессировали (и продолжают дрессировать) целый кадр, целое поколение палачей,
садистов и садисток, которые и наслаждаются замучиванием невинных людей. И все
это — во имя противоестественной химеры, во имя нелепой утопии, во имя
величайшей пошлости, которая ничего не сулит людям, кроме обмана…"
[7].
Но вопрос в том, как был создан этот миллионный “кадр”
палачей, портреты которых мы находим у Солженицына. В способности нации создать
его и поставить на службу антисистеме, отлившейся в карательные формы
тоталитарного государства, тоже, вероятно, проявляется некая историко-культурная
закономерность, как бы свидетельствующая о готовности нации к самоистреблению.
Эта закономерность обнаружила себя как тенденция в начале ХХ
века. В социально-философском и литературно-критическом сознании рубежа веков
утвердилась мысль о новизне культурной ситуации наступившего столетия. Она
связывалась с появлением на исторической арене нового субъекта истории.
Этим новым субъектом русской истории была масса. Ее представителем
в общественной жизни, культуре, искусстве, литературе стал человек массы. Его
появление пророчествовали многие. Знаменитая ленинская фраза: “Буря — это
движение самих масс”
[8]
нашла конкретизацию в философской публицистике начала века.
А.Блок, в частности, рассматривал ХХ век как время противостояния
двух начал: гуманистического (индивидуально-личностного) и противоположного
ему, связанного с массами. На смену самоценной личности шла безличность массы.
В этой смене субъектов исторического и культурного процесса Блок видел причину
крушения гуманизма — основы европейской цивилизации, но был готов бросить под
ноги надвигающейся варварской массе традиционную гуманистическую культуру,
предоставив ей, массе, быть творцом культуры новой. Верный своей идее рождения
гармонии из хаоса, он и в раскатах надвигающейся революции старался различить
будущую гармонию бытия, оправдывая таким образом идею жертвы, личной и общей,
которую предлагал принести всем, кто способен слушать “музыку революции”, и
которую сполна принес сам, увы, не найдя своего места в новом “мировом
оркестре”.
В основном русская культурная элита рубежа веков
видела господство массы как господство Грядущего Хама. “Одного бойтесь, —
восклицал Мережковский, — рабства и худшего из всех рабств — мещанства и худшего
из всех мещанств — хамства, ибо воцарившийся раб и есть хам, а воцарившийся хам
и есть черт — уже не старый, фантастический, а новый, реальный черт,
действительно страшный, страшнее, чем его малюют, — грядущий Князь мира сего,
Грядущий Хам"
[9].
Но в работе Мережковского содержалась не только проклятия Грядущему Хаму, но и
анализ его мироощущения, которым будет обусловлено его грядущее царство от мира
сего. В потере индивидуальности и презрении к личности (в блоковском смысле)
видит Мережковский “лицо хамства, идущего снизу — хулиганства, босячества,
черной сотни”
[10].
Кто же сей Грядущий Хам, составляющий массу, требующую этих
жертв? В статье “О назначении поэта” Блок определил основные черты массы,
“физиологию” ее отдельного представителя.
Человек массы приходит в мир и легко и естественно располагается
в нем, требуя для себя максимально возможного комфорта. Возможность требовать и
диктовать — столь же неотъемлемая его черта, как и утилитаризм, представления о
том, что все блага мира, цивилизации, культуры имеют право на существование
постольку, поскольку удовлетворяют его потребности.
С точки зрения испанского философа Хосе Ортеги-и-Гассета,
масса оказывается главным действующим лицом ХХ века, его диктатором. В своих
работах он приравнивает массу к толпе, психологию массы — к психологии толпы и
выделяет особый культурно-психологический тип — тип человека массы. “Масса — это
средний человек. <…> …Это совместное качество, ничейное и отчуждаемое,
это человек в той мере, в какой он не отличается от остальных и повторяет общий
тип. <…> В сущности, чтобы ощутить массу как психологическую реальность,
не требуется людских скопищ. По одному-единственному человеку можно определить,
масса это или нет. Масса — всякий и каждый, кто ни в добре, ни в зле не мерит
себя особой мерой, а ощущает таким же, “как и все”, и не только не удручен, но
доволен собственной неотличимостью. <…> Масса — это посредственность…
Особенность нашего времени в том, что заурядные души, не обманываясь насчет
собственной заурядности, безбоязненно утверждают свое право на нее и навязывают
ее всем и всюду. <…> Масса сминает все непохожее, недюжинное, личностное
и лучшее”
[11].
Масса, по мысли философа, обладает определенными свойствами поведения: плывет
по течению, лишена ориентиров, ее энергия направлена не на творчество, а на
разрушение. Ортега описывает “анатомию” и “физиологию” человека массы: его
духовные потребности минимальны; он никого не считает лучше себя, но лишь хуже;
принимает себя таким, какой есть, считая свой умственный и нравственный уровень
достаточным; он полагает себя в праве “вмешиваться во все, навязывая свою
убогость бесцеремонно, безоглядно, безотлагательно и безоговорочно…”
[12].
Возникает и приходит к власти новый тип человека, который не желает ни
признавать, ни доказывать правоту, а намерен навязать миру свою волю. Это человек,
утверждающий право не быть правым, право произвола.
Архипелаг, описанный Солженицыным, стал квинтэссенцией
русского варианта господства массового человека, тотального унижения всего индивидуального
и неравного массе. Возможный результат его воцарения литература предвидела еще
в 20-е годы. В первой редакции “Хождения по мукам” А.Н. Толстой так
представлял себе эту ситуацию: “На трон императора взойдет нищий в гноище и
крикнет — “Мир всем!” И ему поклонятся, поцелуют язвы. Из подвала, из
какой-нибудь водосточной трубы вытащат существо, униженное последним унижением,
едва похожее-то на человека, и по нему будет сделано всеобщее равнение”.
Толстой действительно уловил важную грань общественных “массовых” настроений:
право человека массы предложить всеобщую унификацию с собой.
Описывая черты психологического склада людей, служащих
ГУЛагу, в их иерархии от полковника и ниже (“может ли пойти в тюремно-лагерный
надзор человек, способный хоть к какой-нибудь полезной деятельности? <…>
вообще может ли лагерщик быть хорошим человеком? Какую систему морального
отбора устраивает им жизнь?” — т. 2, с. 494), Солженицын
воспроизводит характер массового человека, четко структурированный Ортегой. Его
господство в лагере и в государстве обусловлено отрицательной селекцией (черта
антисистемы): “у лагерщиков, прошедших строгий отрицательный отбор — нравственный
и умственный — у них сходство характеров разительное”(т. 2, с. 497):
спесь и самодовольство, тупость и необразованность, самовластие и самодурство,
ощущение лагеря вотчиной, а заключенных — своими рабами, а себя — пролетарием.
Но откуда же взялся человек массы, предчувствуемый Блоком,
Мережковским, авторами “Вех”, описанный Ортегой на европейском материале, на
русской почве первых десятилетий ХХ века? Как он связан с реализовавшейся
антисистемой? Стал ли он продуктом ее деятельности?
Если принять, что алогизм, беззаконие и бессмысленность
(нравственная, экономическая — любая) геноцида против собственного народа были
не только результатом злой воли Ленина и Сталина и не результатом деятельности
партии, т.е. сравнительно небольшой группы людей, направленной против
подавляющего большинства народа, а итогом не вполне осознанных пока
закономерностей национального исторического развития, выразившегося в создании
химерической культурной конструкции и конечном торжестве антисистемы, то мы
должны попытаться понять, как эта антисистема сложилась. Ведь ее появление не
могло быть случайностью, но было определено некой закономерностью. В чем она и
какова она?
С точки зрения Гумилева, это явление формируется в
результате столкновения двух этнически разных культур. Чаще всего такое
столкновение ведет ко взаимной аннигиляции культур и к возникновению на их
месте антикультуры, которую Гумилев именует химерической культурой; она
уродливо сочетает в себе лишенные присущего им ранее содержания черты и той и
другой. (Не являются ли, например, высотные здания, построенные в Москве,
венчаемые по портикам античными фигурами, держащими в руках символы советского
времени — молот, колосья, конструкторские чертежные инструменты или оружие,
архитектурным воплощением химерической культуры, проявившейся во всех видах
искусства?)
Если формы государственного бытия и бытия ГУЛАГа (а это, как
показывает Солженицын, явления вполне смежные) рассмотреть в качестве химеры,
возникшей в результате культурной аннигиляции, то мы неизбежно окажемся перед
вопросом: в результате чего она появилась? Какие две культуры (или несколько
культурных пластов) столкнулись и пришли к полному взаимоотрицанию, испепелив
друг друга, так что на их месте сложилась чудовищная химера архипелага?
Гумилев писал о возникновении антисистемы в результате
столкновения этнически различных культур. Но русская действительность ХIХ–ХХ веков,
при всей ее насыщенности самыми разными этническими традициями, обусловленными
многонациональным характером Российской Империи, а потом Советского Союза, все
же не дает материала для размышлений о неком фатальном столкновении с иной
национальной культурой. При том, что Россия включала в себя более полутораста народов
и народностей, культурного конфликта не возникало, что обусловлено самой исторической
судьбой русских, ставших, по мысли Солженицына, “народом объемлющим, как бы
протканной основой многонационального ковра” (“Россия в обвале”, с. 114):
русские включали в себя иноземцев, передавали им свою культуру и перенимали у
них; были народом творящим и творимым.
Вероятно, мы должны говорить о напряжениях, переросших в
разрушительные конфликты, внутри самой русской культуры. Но где их истоки? Что
наполняет их зарядом взаимоотрицания? Когда оно возникло и обнаружило себя?
Разделение русской национальной жизни на два
несоприкасающихся пласта ощущалось на рубеже ХХ века как национальная трагедия.
Размышляя об оторванности элитарной русской культуры (которая не перестает быть
национальной культурой и национальным достоянием) от народной, Е. Кузьмина-Караваева
писала: "Мы жили среди огромной страны, словно на необитаемом острове. Россия не
знала грамоту — в нашей среде сосредоточилась вся мировая культура: цитировали
наизусть греков, увлекались французскими символистами, считали скандинавскую
литературу своею, знали философию и богословие, поэзию и историю всего мира, в
этом смысле были гражданами вселенной, хранителями великого культурного музея
человечества. Это был Рим времен упадка… Мы были последним актом трагедии —
разрыва народа и интеллигенции. За нами простиралась всероссийская снежная
пустыня, скованная страна, не знающая ни наших восторгов, ни наших мук, не
заражающая нас своими восторгами и муками"
[13].
Эта пропасть, разделившая русских, сделалась предметом размышлений
Блока, который рассматривал отношения между интеллигенцией и народом не только
как ненормальные и недолжные. "В них есть нечто жуткое; душа занимается
страхом, когда внимательно приглядишься к ним", — писал он, размышляя о
возможном исходе противостояния народа и интеллигенции, двух культур, двух
реальностей русской жизни: "полтораста миллионов, с одной стороны, и несколько
сот тысяч — с другой; люди, взаимно друг друга непонимающие в самом основном"
[14].
Блок больше чем кто-либо осознал, что противостояние Невского проспекта и
бескрайних русских полей не могло кончиться добром для русской цивилизации в
целом. Уже в 1918 году он спрашивал у своих соотечественников: "Что же вы
думали?.. что так "бескровно" и "безболезненно" и разрешится вековая распря
между "черной" и "белой" костью, между "образованными" и "необразованными",
между интеллигенцией и народом?"
[15]
Вековая распря разрешилась столкновением двух русских культур, взрывом, приведшим
ко взаимной аннигиляции и возникновению химерической конструкции на том месте,
где сошлись в последнем акте своей вражды кость "белая" и "черная".
Но это был уже последний акт трагедии, двинувшей страну к
революции. Где был первый акт?
Исток трагического разветвления русской культуры на два
потока, со временем все дальше друг от друга удаляющихся, восходит к церковному
расколу, а затем к петровской эпохе. На протяжении двух столетий, предшествовавших
1917 году, дворянская культура становилась все более противопоставленной "необразованной"
крестьянской культуре, которую не затронул ни петровский век, ни век
просвещения, ни век ХIХ. Она существовала обособленно, не имея возможности
знать, что происходит с культурой элитарной, дворянской. Возникла ситуация,
драматичная по сути своей. В рамках одного языка, одного вероисповедания,
одного народа развивались параллельными путями, не совпадая, почти не
перекрещиваясь, две субкультуры, как бы не замечающие существования друг друга.
Это вовсе не значит, что одна была более русская, другая менее, одна была
лучше, другая хуже. Это не значит, что путь народной культуры был более прямым
и естественным для русского сознания, чем путь культуры дворянской, культуры,
созданной Петром и поддержанной Екатериной. И та, и другая состоялись в истории
и дали великие образцы — следовательно, были естественны и благотворны для
России. Но в самом факте их существования содержался глубинный конфликт,
проявившийся и в пугачевщине, и в революции 1917 года, и в гражданской войне.
Заимствовав, по словам Н.Г. Чернышевского, на Западе европейскую культуру,
архитектуру, литературу, формы социального бытия и государственного устройства,
Петр программировал столкновение патриархальных, исконных основ бытия с новыми.
Чем же были определены эти взаимное непонимание и
враждебность между двумя этажами русского общества? Что лишало людей одной национальности,
говорящих на одном языке, возможности контакта?
Думается, что это было в корне различное понимание
человеческой личности. Ее места в этом мире. Ее назначения, прав, свобод. С
момента национального раскола, с реформ Петра в русском народе на протяжении
уже трех столетий активно взаимодействуют два национальных типа. Один из них
прямо восходит к православно-византийскому менталитету, а на русской почве — к
культурно-исторической традиции древнего Киева и Новгорода и актуализирует
личностно-индивидуальный тип сознания. Выкованный христианской историей,
пронесенный через средневековье, окрепший в эпоху Ренессанса и ставший основой
западной системы ценностей в новое время, он актуализирует идею личной свободы
человека как стержневой принцип социального бытия. Петр привнес на русскую
почву западно-индивидуалистический тип сознания, восходящий к Ренессансу, и он
тоже вовсе не оказался инородным и дал свои очевидные всходы в русской
цивилизации.
Иной тип — идущий от Поля, от Орды, связанный с неприятием
индивидуального, личностного начала. Идеалом в таком случае является растворение
личности в коллективе — будь то род, община, народ. Этот социокультурный
исторический тип Георгий Федотов называл московским. "В татарской школе, на
московской службе выковывался особый тип русского человека — московский тип, — писал
он. — Этот тип, психологически, представляет сплав северного великоросса с
кочевым степняком, отлитый в формы осифлянского православия… Мировоззрение
русского человека упростилось до крайности… Он не рассуждает, он принимает на
веру несколько догматов, на которых держится его нравственная и общественная
жизнь… Свобода для москвича — понятие отрицательное: синоним распущенности, "ненаказанности",
безобразия"
[16].
По мнению Г.Федотова, московский тип стал основным типом, противостоящим
образованному слою общества, интеллигенции; его-то и склонны были называть в
начале века "народ". Сложившись в момент формирования вокруг Москвы централизованного
русского государства, он обладал удивительной стойкостью и монолитностью: "От
царского дворца до последней курной избы московская Русь жила одним и тем же
культурным содержанием, одними идеалами. Различия были только количественные.
Та же вера и те же предрассудки, тот же Домострой, те же апокрифы, те же нравы,
обычаи, речь и жесты". Культурная расколотость петербургского, послепетровского
периода и сложность человеческой личности, явленная, к примеру, Достоевским,
немыслима в Москве. "Вот это единство культуры и сообщает московскому типу его
необычайную устойчивость. Для многих он кажется даже символом русскости. Во
всяком случае, он пережил не только Петра, но и расцвет русского европеизма; в
глубине народных масс он сохранился до самой революции"
[17].
Каковы были возможные варианты сосуществования двух русских
культур?
Обобщая, можно сказать, что их было два: синтез,
плодотворное взаимодействие, с одной стороны, и взаимная аннигиляция, ведущая к
созданию химерической культурной конструкции — с другой. В русской культуре
постоянно реализовывались обе возможности: обострение конфликта сопровождалось
обоюдным стремлением к синтезу. Чем больше и сильнее были устремления "синтетические",
тем больше был запас прочности русской цивилизации. Так проявлялся механизм
самосохранения национальной культуры, обреченной волею истории жить в
мучительном расколе с самой собой, совмещать в себе два культурно-исторических
типа. "Ткани" двух русских культур не только не отторгали друг друга, но, напротив,
соединяясь, обнаруживают возможность интенсивного развития и плодотворного
синтеза, способного в перспективе привести к слиянию в один общий поток.
Феноменальный взлет русской литературы прошлого века обусловлен наметившимся
синтезом. Стоит вспомнить опыт Пушкина, сделавшего предметом творческого
познания и высший петербургский свет, и судьбу маленького человека, и опыт
народной жизни. Две линии национальной культуры сосуществуют, органично
синтезируются в творчестве Гоголя, автора "Миргорода", "Ночи перед Рождеством",
"Страшной мести" — и "Невского проспекта", "Портрета", "Носа".
Проявлением культурного синтеза стали 60-е годы, когда
разночинцы, этот "новый кряж людей", по выражению Герцена, плоть от плоти народной
среды, выучившись на медные деньги, пришли в университетские аудитории. 1860-е
годы являют тот момент русской истории, когда реальной была возможность
преодоления трагического противостояния двух культур, существовали реальные
предпосылки их слияния в одну. "Еще 50 лет, — предполагал Г. Федотов, — и
окончательная европеизация России — вплоть до самых глубоких слоев ее — стала
бы фактом. Могло ли быть иначе? Ведь "народ" ее был из того же самого
этнографического и культурного теста, что и дворянство, с успехом проходившее
ту же школу в ХVIII веке. Только этих пятидесяти лет России не было дано"
[18].
Но сами шестидесятники, судьбы которых были связаны с приобщением
к науке, культуре, цивилизации, ведущей свою генеалогию от петровского времени,
принесли призыв "к топору", провозглашенный Герценом — слова Пушкина о
бессмысленности и беспощадности русского бунта не были ими услышаны. Мечтая о
крестьянской революции, они раздували огонь, способный пожрать вообще всю
русскую культуру — и дворянскую, и народную, в котором бесследно исчезнет и
профессорская кафедра разночинца, и герценовский крестьянский топор. Революционность
шестидесятников, стремящихся как бы перенести пугачевщину в ХIХ век, поставила
под вопрос перспективы синтеза, идущего в это же самое время с необычайной
интенсивностью. Призывы "к топору" свели на нет и хождение в народ, и теорию
малых дел, способную соединить две русских жизни, две цивилизации: дворянскую и
народную. Этого не произошло. ХIХ век закончился осознанием непреодолимой
бездонной пропасти между народом и образованной частью общества — той самой
пропасти, о которой писала Кузьмина-Караваева, в которую мужественно смотрел, готовый
к любым личным жертвам для ее преодоления, А. Блок, осознавая, впрочем, ее
непреодолимость.
С особой ясностью катастрофичность ситуации, когда, по выражению
С.Н. Булгакова, "нация раскалывается надвое, и в бесплодной борьбе растрачиваются
лучшие ее силы", обнажилась после взрыва 1905 года. Авторы “Вех” возложил вину
за это на образованный слой русского общества, ведущий свою родословную от
петровской реформы и наследующий тот самый, дворянский, элитарный тип культуры,
получивший тогда уже гордое звание интеллигенции. Повторившаяся пугачевщина и
столь же жестокое ее подавление многим открыла глаза. Публичным покаянием и осмыслением
исторических ошибок стал сборник "Вехи": "революция есть духовное детище
интеллигенции, а, следовательно, ее история есть исторический суд над этой
интеллигенцией"
[19].
Все авторы "Вех" трагически воспринимают разобщенность двух
слоев русской нации. "Сказать, что народ нас не понимает и ненавидит, значит не
все сказать. Может быть, он не понимает нас потому, что мы образованнее его?
Может быть, ненавидит за то, что мы не работаем физически и живем в роскоши?
Нет, он, главное, не видит в нас людей: мы для него человекоподобные чудовища,
люди без Бога в душе…" — пишет М.Гершензон. По его мысли, до 1905 года это
противостояние не было столь очевидным. "Мы даже не догадывались об этом. Мы
были твердо уверены, что народ разнится от нас только степенью образованности… Что народная душа качественно другая —
нам это и на ум не приходило". Именно Гершензон острее всех ощущает трагизм и
неизбывность конфликта и его неразрешимость. "Между нами и нашим народом — иная
рознь. Мы для него не грабители, как свой брат, деревенский кулак; мы для него
не просто чужие, как турок или француз: он видит наше человеческое и именно
русское обличие, но не чувствует в нас человеческой души, и потому он ненавидит
нас страстно, вероятно с бессознательным мистическим ужасом, тем глубже
ненавидит, что мы свои. Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о
слиянии с народом, бояться его мы должны пуще всех казней власти…"
[20].
Как понять эту мысль М. Гершензона? Думается, что он
предвидит страшные перспективы новой русской революции, ту самую брешь в русской
культуре и в русской цивилизации, которую не пробил Пугачев, но пробила
пугачевщина ХХ века. Боясь "слияния с народом", М. Гершензон страшится.
взаимного испепеления двух непонятных друг для друга культур и двух не
понимающих друг друга классов русского общества. Но механизм был запущен,
русская культура шла к тому химерическому образованию, которое возникнет в
России спустя два с небольшим десятилетия. Устремленность к взаимоуничтожению,
но не к синтезу оказалась господствующей в русском менталитете начала века.
Сущностная, бытийная природа двух русских культур обусловила непримиримый
конфликт между ними. В результате их столкновения, первым актом которого был
1905 год, а кульминацией — 1917, произошел взрыв, испепеливший обе культурные
тенденции (а не одна победила другую).
Пропасть, разделившая надвое
русскую цивилизацию, стала одной из тем творчества Солженицына. Один из его
мотивов — мотив взаимного непонимания людей двух русских культур.
Герои романа “В круге первом”
Рубин, Сологдин и Нержин представляют разные варианты трактовки того образа
народа, которое родилось из интеллигентского незнания народной жизни и было
обусловлено той самой пропастью, которая с болью осознавалась русской
интеллигенцией рубежа веков.
Восприятие народа Рубиным раз и
навсегда определено его классовым мировоззрением, отказаться от догматов
которого он не может: “Рубин хорошо знал, что понятие “народ” есть понятие
вымышленное, есть неправомерное обобщение, что всякий народ разделен на классы,
и даже классы меняются со временем. Искать высшее понимание жизни в классе
крестьянства было занятием убогим, бесплодным, ибо только пролетариат до конца
последователен и революционен, ему принадлежит будущее, и лишь в его
коллективизме и бескорыстии можно почерпнуть высшее понимание жизни”
[21]
Очевидно, что столь ярко выраженная классовая точка
зрения не может соответствовать авторской позиции. Как выражается несогласие
автора и героя?
Одной из
форм выражения авторской позиции является введение другой точки зрения,
которая, впрочем, тоже лишена прямой авторской оценки. Она принадлежит Дмитрию
Сологдину: “Не менее хорошо знал и Сологдин, что “народ” есть безразличное
тесто истории, из которого лепятся грубые, толстые, но необходимые ноги для
Колосса Духа. “Народ” — это общее обозначение совокупности серых, грубых
существ, беспросветно тянущих упряжку, в которую они впряжены рождением и из
которой их освобождает только смерть. Лишь одинокие яркие личности, как звенящие
звезды разбросанные на темном небе бытия, несут в себе высшее понимание”
(Собр.соч., т. 2, с. 128). Эти рассуждения напоминают теорию
Раскольникова. Именно так, с точки зрения героя Достоевского, соотносится воля “тех,
кто право имеет”, и подавляющего большинства, “почвы” истории, ее “матерьяла”,
служащих единственно для воспроизводства себе подобных. Сологдин почти вплотную
подходит к рассуждениям Раскольникова о разделении людей на “тварей дрожащих” и
“право имеющих”.
Не большим пониманием, интересом
и любовью платит им представитель другой стороны надвое разделенной
национальной жизни — того самого народа, о котором философствуют Рубин и
Сологдин. Исконное, тремя веками русской истории воспитанное недоверие к личности
интеллектуально возвысившейся испытывает человек из народа, даже в том случае,
если они разделили общую национальную судьбу — вспомнить подозрения дворника
Спиридона к Глебу Нержину. Движимый традиционным для русского интеллигента
стремлением раскрыть для себя народную душу и народную тайну, Глеб стремится
сойтись со Спиридоном поближе. Спиридон же видит в Нержине стукача, волка, рыскающего за добычей для кума. “Хотя сам Спиридон считал свое
положение на шарашке последним, и нельзя себе было представить, зачем бы
оперуполномоченные его обкладывали, но, так как они не брезгуют никакой
падалью, следовало остерегаться”. В этой осторожности — и жестокий лагерный
опыт, и исконное недоверие мужика к “барину”, предпринимающему очередное в
русской истории “хождение в народ”, ирония над его причудами, желание с
усмешкой подыграть этим причудам: “При входе Нержина в комнату Спиридон
притворно озарялся, давал место на койке, и с глупым видом принимался
рассказывать что-нибудь за-тридевять-земельное от политики”. В этих рассказах
кроется именно игра умного простака, обводящего вокруг пальца наивного глупца:
“малоподвижные больные глаза Спиридона из-под густых рыжеватых бровей
добавляли: “Ну, что ходишь, волк? Не разживешься, сам видишь” (Собр. соч., т. 2,
с. 132).
История взаимоотношений на
шарашке Глеба и Спиридона Данилыча — это история преодоления двумя мыслящими
личностями, принадлежащими разным слоям нации, той извечной пропасти, что
разделят народ и интеллигенцию, элитарную и народную культуру, крестьянство и свет,
элиту и народ. Но герои Солженицына далеко не сразу нашли в себе силы
переступить пропасть, о которой размышлял Блок.
Для того чтобы сделать это,
необходимо было освободиться от мифологических представлений о народе,
созданных по преимуществу в ХIХ веке, когда дистанция между двумя слоями
русского общества стала осознаваться как некая данность. Две мифологемы
подобного рода представлены мыслями о народе Рубина и Сологдина. Путь же
Нержина ознаменован освобождением от литературного мифа о народе-богоносце, который
создает “в серебряном окладе и с нимбом седовласый образ Народа, соединившего в
себе мудрость, нравственную чистоту, духовное величие” (Собр. соч., т. 2,
с. 132).
Изживание извечного интеллигентского
комплекса народа-богоносца и вины перед ним дает возможность Нержину
освободиться от мифологем, навязанных и прошлым веком, и нынешним. Жизненный
опыт Нержина открывает ему, “что у народа не было перед ним никакого кондового
сермяжного преимущества. <…> Нержин ясно увидел, что люди эти ничуть не
выше его. Они не стойче его переносили голод и жажду. Не тверже духом были
перед каменной стеной десятилетнего срока. Не предусмотрительней, не
изворотливей его в крутые минуты этапов и шмонов. Зато были они слепей и доверчивей
к стукачам. Были падче на грубые обманы начальства” (Собр. соч., т. 2, с. 131).
Путь навстречу друг другу
Спиридона и Нержина может начаться лишь тогда, когда оба осознают отсутствие
принципиальной разницы между собой, поймут, что оба сделаны из одного теста. И
все же Нержин, начиная путь к Спиридону, полагает, что “он-то и есть тот
представитель Народа, у которого следовало черпать”. Общаясь со Спиридоном,
Глеб ставит социальный эксперимент и ждет его блестящих результатов. Он надеется
в его точке зрения найти “перетяжку, противовес ученым своим друзьям” и
услышать от него “народное сермяжное обоснование скептицизма” (Собр. соч., т. 2,
с. 145), которое дало бы возможность самому утвердиться в нем.
Спиридон утверждает свой критерий оценки человеческой личности. Он
предлагает формулу, от силы и простоты которой задохнулся Нержин: “волкодав — прав,
а людоед — нет”. Это сближает позиции героев. Спиридон готов принести себя и
даже свою семью “и еще мильён людей” в жертву самолету с атомной бомбой при условии,
что бомба уничтожит и “Отца Усатого и всё заведение их с корнем, чтоб не было
больше, чтоб не страдал народ по лагерях, по колхозах, по лесхозах” (Собр. соч.,
т. 2, с. 147).
Готовность к этой жертве обнаруживает, что уже нет той самой
пропасти между народом и интеллигенцией, о которой размышляли в начале века
представители русской культурной элиты. Готовность жертвы самим собой и своей
собственной семьей, самым дорогим, что дано человеку, во имя неких высших
ценностей, приводит самыми разными путями лучших героев Солженицына к пониманию
истинных христианских ценностей, отличных от традиционных ценностей
гуманистического плана, утвержденных еще эпохой Ренессанса.
Однако далеко не всегда в эпосе Солженицына пропасть,
разделяющая людей двух русских субкультур, преодолевается. Трагедия ментальной
несовместимости людей, принадлежащих одной нации, многократно усиливается
историческими обстоятельствами гражданской войны, делающей губительными
утопические представления русской интеллигенции о “народе — богоносце”. Павел
Васильевич Эктов (рассказ Солженицына "Эго"), сельский интеллигент, смысл своей
жизни видевший в служении народу, "в повседневной помощи крестьянину в его
текущих насущных нуждах, облегчении народной судьбы в любой реальной форме"
вполне испытал его губительность. Во время гражданской войны Эктов не увидел
для себя, народника и народолюбца, иного выхода, как примкнуть к крестьянскому
повстанческому движению, возглавляемому Антоновым. Самый образованный человек
среди сподвижников Антонова, Эктов стал начальником его штаба. Солженицын показывает
трагический зигзаг в судьбе этого великодушного и честного человека, унаследовавшего
от русской интеллигенции неизбывную нравственную потребность служить народу, разделять
крестьянскую боль. Но выданный теми же крестьянами ("на вторую же ночь был выдан
чекистам по доносу соседской бабы"), Эктов сломлен шантажом: он не может найти
в себе сил пожертвовать женой и дочерью и идет на страшное преступление, по сути
дела "сдавая" весь антоновский штаб — тех людей, к которым он пришел сам, чтобы
разделить их боль, с которыми ему необходимо было быть в лихую годину, чтобы не
прятаться в своей норке в Тамбове и не презирать себя! Солженицын показывает
судьбу раздавленного человека, оказавшегося перед неразрешимым жизненным
уравнением и не готовым к его решению. Он может положить на алтарь свою жизнь,
но жизнь дочери и жены? В силах ли вообще человек сделать подобное? Условия
таковы, что и добродетельные качества человека оборачиваются против него.
Кровавая гражданская война зажимает частного человека между двух жерновов,
перемалывая его жизнь, его судьбу, семью, нравственные убеждения. Безрелигиозно-гуманистическая
традиция, восходящая к ренессансной эпохе и прямо отрицаемая Солженицыным в его
Гарвардской речи, мешает человеку ощутить свою ответственность шире, чем за
семью. “В рассказе “Эго”, — считает П. Спиваковский, — как раз и показано,
как безрелигиозно-гуманистическое сознание главного героя оказывается
источником предательства”. Невнимание героя к проповедям сельских батюшек, на
которое обращает внимание критик, как раз лишает человека “той самой реальной
помощи, без которой герой попадает в капкан собственного мировоззрения”
[22].
Человек перед лицом нечеловеческих обстоятельств,
измененный, размолотый ими, неспособный отказаться от компромисса и, лишенный христианского
мировоззрения, беззащитный перед ними (можно ли судить за это Эго?) — еще одна
типичная ситуация нашей истории.
Как одно из самых больших
заблуждений современной цивилизации писатель трактует гуманистические идеи,
восходящие к ренессансной эпохе и высшей ценностью мира, центром мироздания,
целью развития вселенной утверждающие человека. “Мерою всех вещей на земле оно
(гуманистическое мировоззрение — М.Г.) поставило человека — несовершенного
человека, никогда не свободного от самолюбия, корыстолюбия, зависти, тщеславия
и десятков других пороков” (Публицистика, т. 1 с. 327). Такие
идеи видятся Солженицыну как антирелигиозные, несовместимые с христианским
мировоззрением, умножающие гордыню человека и человечества. Такое миросознание
“может быть названо рационалистическим гуманизмом либо гуманистической
автономностью — провозглашенной и проводимой автономностью человека от всякой
высшей над ним силы. Либо, иначе, антропоцентризмом — представлением о человеке
как о центре существующего”. Это привело к тому, что гуманистическое сознание
“не признало за человеком иных задач выше земного счастья и положило в основу
современной западной цивилизации опасный уклон преклонения перед человеком и
его материальными потребностями. За пределами физического благополучия и
накопления материальных благ все другие, более тонкие и высокие, особенности и
потребности человека остались вне внимания, <…> как если бы человек не
имел более высокого смысла жизни” (Публицистика, т. 1, с. 324).
Современному человеку, русскому
или же западноевропейцу, воспитанному на просвещенческих идеалах, определяющих
систему его ценностей на протяжении последних трехсот лет, практически
невозможно смириться с мыслью, что не его счастье и не счастье человечества
является конечной целью существования Вселенной. И в этом смысле неважно, где
он рожден и воспитан: советская идеология мало чем отличалась от западной. “Не
случайно все словесные клятвы коммунизма, — говорил Солженицын в Гарвардской
речи, — вокруг человека с большой буквы и его земного счастья. Как будто
уродливое сопоставление — общие черты в миросознании и строе жизни нынешнего
Запада и нынешнего Востока! — но такова логика развития материализма”
(Публицистика, т. 1, с. 326).
Но для чего же тогда рожден
человек, если не для счастья? Такая постановка вопроса видится Солженицыным как
глубоко порочная реализация просвещенческих идей. Многократно упрощенные в
лозунгах советской литературы, эти идеи оборачиваются гибелью личности, обладающей
“жалкой идеологией” "человек создан для счастья", выбиваемая первым ударом
нарядчикова дрына"(“Архипелаг ГУЛаг”).
Довод, которым Солженицын
опровергает “жалкую идеологию”, формулу “человек создан для счастья”, прост и
очевиден и уходит в бытийную, экзистенциальную сущность миропорядка: “Если бы,
как декларировал гуманизм, человек был рожден только для счастья, — он не был
бы рожден и для смерти. Но оттого, что он телесно обречен смерти, его земная
задача, очевидно, духовней: не захлеб повседневностью, не наилучшие способы
добывания благ, а потом веселого проживания их, но несение постоянного и
трудного долга, так что весь жизненный путь становится опытом главным образом
нравственного возвышения: покинуть жизнь существом более высоким, чем начинал
ее” (Публицистика, т. 1, с. 327).
Видит ли современный человек эту
цель в конце своего жизненного пути? Если нет, то причиной тому, по
Солженицыну, становится дезориентация современного человека в этом мире и
забвение им основных, глубинных, бытийных ценностей, и как результат — утрата истинного
смысла жизни.
С гуманистическими идеями
связаны и многообразные мифологические представления, выработанные литературой
ХIХ века и способные лишь дезориентировать человека в историческом
пространстве. Среди них — идеализация народного характера без сколько-нибудь
глубинного знания народной жизни, представления о некой мистически предопределенной
правоте народа на любых поворотах истории, уверенность в некой фатальной истинности
народных представлений.
Вероятно, глубокая укорененность
этих представлений, принесенных литературой ХIХ века, была следствием неудачной
попытки заполнить духовный вакуум, образовавшийся в результате забвения
“морального наследства христианских веков” и воли Высшего Духа, стоящего над людской
жизнью. Но в человеке, даже выделившемся, противопоставившем себя миру, роду,
жива потребность ощущения этой воли, потребность понимания Божественного
замысла, дающего высшую нравственную оценку деяний личности и нации и
придающего смысл индивидуальному и национальному бытию. Общество, потерявшее
ощущение Высшего Промысла, направляющего судьбу человека и историю нации,
попыталось на это место поставить идеализированный образ Народа, который
предстал как хранитель высшей мудрости и высшего знания о предназначении национальной
судьбы. Истоки такого понимания — во второй половине прошлого века и, в первую
очередь, в революционно-демократической идеологии.
В сущности, взгляды Солженицына,
прямо выраженные в Гарвардской лекции, дают ключ к пониманию вековой распри
между народом и интеллигенцией. Обращение писателя к историческим
обстоятельствам начала ХХ века, в итоге разрешившимся гражданской войной,
обнаруживает утопизм представлений русской интеллигенции о “народе — богоносце”.
Следование этому мифу сказывается катастрофически и на судьбах людей,
воспитанных в этих представлениях книгами и средой, и на крестьянских судьбах.
Трагедии подобного рода исследуется Солженицыным и в десятитомной эпопее
“Красное колесо”, и в цикле рассказов 1990-х годов.
Их герои — и люди, казалось бы,
канувшие в безднах русской истории, и оставившие в ней яркий след, такие,
например, как маршал Г.К. Жуков — рассматриваются писателем с сугубо
личной стороны, вне зависимости от официальных регалий, если таковые имеются.
Проблематику этих рассказов формирует конфликт между историей и частным, как бы
"голым", человеком. Пути разрешения этого конфликта, сколь ни казались бы они
различными, всегда приводят к одному результату: человек, утративший веру и
дезориентированный в историческом пространстве гуманистическими
представлениями, осужденными Солженицыным (например, в Гарвардской и Темплтоновской речах), человек, не умеющий жертвовать собой и идущий на
компромисс, оказывается перемолот и раздавлен страшной эпохой, в которую ему
выпало жить.
Но русская действительность ХХ века, запечатленная Солженицыным,
знает самые разные типы личного и общественного поведения — от радостного
приятия лжи и самозабвенного палачества до истинных подвигов в противостоянии
советской химере. Способных на подвиг мало, но они есть — это патриарх Тихон,
судимый Мосревтрибуналом, или мало кому известная Анна Петровна Скрипникова,
портрет которой представлен в “Архипелаге…”. Они сохранили твердость и смогли
противостоять тому самому Грядущему Хаму, о котором возвещал Мережковский, массовому
человеку, худшему из худших, который стал теперь представителем системы,
вернее, антисистемы.
Но большинство людей идут на компромисс, часто осознавая
чудовищность системы, с которой они вступают в сговор. Именно эти люди, как нам
представляется, составляют особый предмет интереса для писателя. Компромисс с
обстоятельствами, маленькая уступка, небольшая сделка с самим собой непременно
оборачивается катастрофой для самого человека. Таких большинство. Солженицын в
своем художественном творчестве создал целую антологию компромисса, чаще всего
губительного.
К компромиссу Эго привели две
черты русского интеллигента: принадлежность к безрелигиозному гуманизму и
следование революционно-демократической традиции. Но, как это ни парадоксально,
схожие коллизии увидел писатель и в жизни Жукова. Удивительна связь его судьбы
с судьбой Эго — оба воевали на одном фронте, только по разные его стороны:
Жуков — на стороне красных, Эго — восставших крестьян. И ранен был Жуков на
этой войне с собственным народом, но, в отличие от идеалиста Эго, выжил. В его
истории, исполненной взлетами и падениями, в победах над немцами и в мучительных
поражениях в аппаратных играх с Хрущевым, в предательстве людей, которых сам
некогда спасал (Хрущева — дважды, Конева от сталинского трибунала в 1941), в
бесстрашии юности, в полководческой жестокости, в старческой беспомощности Солженицын
пытается найти ключ к пониманию этой судьбы, судьбы маршала, одного из тех
русских воинов, кто, по словам И. Бродского, "смело входили в чужие
столицы, / но возвращались в страхе в свою" ("На смерть Жукова", 1974). Во
взлетах и в падениях он видит за железной волей маршала слабость, которая
проявилась во вполне человеческой склонности к компромиссам. И здесь — продолжение
самой важной темы творчества Солженицына, начатой еще в "Одном дне Ивана
Денисовича" и достигшей кульминации в "Архипелаге ГУЛаге": это тема связана с
исследованием границы компромисса, которую должен знать человек, желающий не
потерять себя. Раздавленный инфарктами и инсультами, старческой немощью,
предстает в конце рассказа Жуков — но не в этом его беда, а в компромиссе.
Компромисс и нерешительность в поворотные периоды жизни, тот самый страх,
который испытывал, возвращаясь в свою столицу, сломили и прикончили маршала — по-другому,
чем Эго, но, по сути, так же. Как Эго беспомощен что-либо изменить, когда
страшно и жестоко предает, Жуков тоже может лишь беспомощно оглянуться на краю
жизни: "Может быть еще тогда, еще тогда — надо было решиться? О-ох, кажется
— дурака-а, дурака свалял?..". Герою не дано понять, что он ошибся не тогда,
когда не решился на военный переворот, а когда он, крестьянский сын, чуть ли не
молясь на своего кумира Тухачевского, участвует в уничтожении породившего его
мира русской деревни, когда крестьян выкуривали из лесов газами, а
“пробандиченные” деревни сжигались нацело.
Рассказы об Эктове и Жукове
обращены к судьбам безусловно честных и достойных людей, сломленных страшными
историческими обстоятельствами советского времени. Но возможен и иной вариант
компромисса с действительностью — полное и радостное подчинение ей и естественное
забвение любых мук совести. Об этом рассказ "Абрикосовое варенье". Первая часть
этого рассказа — страшное письмо, адресованное живому классику советской
литературы. Его пишет полуграмотный человек, который вполне отчетливо осознает
безвыходность советских жизненных тисков, из которых он, сын раскулаченных
родителей, уже не выберется, сгинув в трудлагерях: "Я — невольник в предельных
обстоятельствах, и настряла мне такая прожитьба до последней обиды. Может, вам
не дорого будет прислать мне посылку продуктовую? Смилосердствуйтесь…" Продуктовая
посылка — в ней, быть может, спасение этого человека, Федора Ивановича,
ставшего всего лишь единицей принудительной советской трудармии, единицей,
жизнь которой вообще не имеет сколько-нибудь значимой цены. Вторая часть
рассказа — описание быта прекрасной дачи знаменитого Писателя, богатого,
пригретого и обласканного на самой вершине — человека, счастливого от удачно
найденного компромисса с властью, радостно лгущего и в журналистике, и
литературе. Писатель и Критик, ведущие литературно-официозные разговоры за
чаем, находятся в ином мире, чем вся советская страна. Голос письма со словами
правды, долетевшими в этот мир богатых писательских дач, не может быть услышан
глухими к голосу правды представителями литературной элиты: глухота является
одним из условий заключенного компромисса с властью. Верхом цинизма выглядят
восторги Писателя по поводу того, что "из современной читательской глуби
выплывает письмо с первозданным языком… какое своевольное, а вместе с тем
покоряющее сочетание и управление слов! Завидно и писателю!". Письмо, взывающее
к совести русского писателя (по Солженицыну, он является советским
писателем), становится лишь материалом к изучению нестандартных речевых оборотов,
помогающих стилизации народной речи, которая осмысляется как экзотическая и
подлежащая воспроизведению "народным" Писателем, как бы знающим национальную
жизнь изнутри. Высшая степень пренебрежения к звучащему в письме крику
замученного человека, звучит в реплике Писателя, когда его спрашивают о связи с
корреспондентом: “Да что ж отвечать, не в ответе дело. Дело — в языковой находке”.
Не правда ли, еще один интересный вариант несостоявшегося контакта между “черной”
и “белой” костью?
Сам Солженицын всегда стался избегать компромисса — насколько
это было возможно в той политической и литературной среде, которая известна
нам, в частности, по книге “Бодался Теленок с дубом”. Избегает он его и сейчас.
Бескомпромиссность — это идеал, стремление к которому определяет и характер
творческого дара, и специфику общественного поведения. Она дала возможность
выиграть в безнадежном, казалось бы, противостоянии советской системе и
принесла победу “теленку”, бодавшемуся с “дубом”. Плата за бескомпромиссность —
литературное одиночество (которое, возможно, осмысляется как благо): трудно
представить себе Солженицына в некой “партии”, литературной или общественно-политической.
Плата — в множественных личностных разрывах с близкими некогда людьми. Плата — в
непонимании очень и очень многими.
Живя так, он и другим предлагает то же. Ответственность за
национальные трагедии ХХ века он возлагает не столько на “вождей Советского
Союза”, сколько на всех нас, втянутых в компромисс с властью, который, с его
точки зрения, приводит к “жизни по лжи”. И Сахарова он обвиняет именно в
компромиссе — на сей раз не с вождями, но с теми наработанными в течение
десятилетий догмами, с которыми, по мнению Солженицына, не смог справиться
ученый и мыслитель (статья “На возврате дыхания и сознания”).
Но, отказываясь от компромисса, Солженицын знает его великий
соблазн. Этот соблазн писатель изживает в своих героях, им передоверяя испытать
его сладость и пережить обусловленную этим соблазном трагедию. В его эпосе
предложена целая антология национального компромисса. Можно даже сказать, что
одним из предметов изображения в творчестве Солженицына оказывается русский
национальный характер в ситуации компромисса.
Компромисс совершается и отдельным человеком, и массой
людей, единодушно одобряющих на каком-либо собрании очередную государственную
истерию, травлю, аресты и т.п. В сущности, тотальный компромисс и стал для
писателя зловещим знаком грандиозной деформации русского сознания. Деформации,
грозящей катастрофой, делающей весьма туманной национальную перспективу ХХI века (“Россия в обвале”).
Способность к компромиссности обусловлена слишком уж глубоко
вошедшими в национальное сознание идеями безбожного и безрелигиозного гуманизма
и ослаблением ценностей, утверждаемых христианской цивилизацией. Мы полагаем,
что именно здесь находит Солженицын ключ к русской трагедии ХХ века. “Все бы
так отвечали! — пишет он о словах патриарха Тихона, произнесенных на суде. — Другая
была б наша история!”(Т. 1. С. 342). Эта мысль проходит лейтмотивом
через все тома “Архипелага”. “Если бы все были вчетверть такие непримиримые, — заканчивает
писатель портрет Анны Скрипниковой, — другая была б история России”(Т. 2.
С. 614).
“Да быть ли нам русскими?” — этот вопрос из книги “Россия в
обвале” носит отнюдь не риторический характер. Мы сможем остаться русскими, т.е.
сохранить самих себя таковыми, лишь тогда и в том случае, если забудем о
пагубной привычке к компромиссу, выработанной исторической действительностью ХХ
века. Впрочем, не только ХХ века, как мы попытались показать.