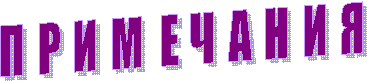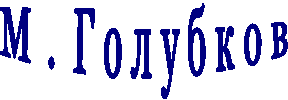
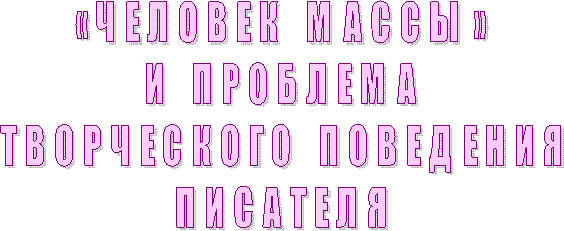
Полигнозис. 2001. № 1. С. 104–119
Теперь,
когда ХХ век предстает как явление не только в хронологическом, но и в
социокультурном плане завершенное, а потому обозримое, перед литературоведением
встает вопрос о выборе такой точки зрения, которая позволила бы наиболее полно
и объективно воспринять закономерности его историко-литературного развития.
Но
именно ХХ век привнес в научную методологию мысль о невозможности существования
одной-единственной точки зрения на объект, так же, как и одного-единственного
метаязыка, описывающего явление, что стало одним из важнейших философских,
научных и этических итогов столетия. Идеи Эйнштейна, поставившего основополагающие
константы мира в зависимость от точки зрения наблюдателя, открытия дуализма «волна-частица»,
показавшее, что именно точка зрения исследователя-экспериментатора определяет
характер поведения физического объекта, предопределили мысль о дополнительности
разных точек зрения — в том числе, и в сфере гуманитарного знания. «Представление
о возможности одного идеального языка как оптимального механизма для выражения
реальности является иллюзией, — писал Ю.М. Лотман. — Минимально работающей
структурой является наличие двух языков и их неспособность, каждого в
отдельности, охватить внешний мир” [1].
Мысль о необходимости нескольких точек зрения для адекватного восприятия
истории, культуры и литературы стала основополагающей не только для поздних
работ Ю.М. Лотмана, но и для тартуско-московской школы (4;9) — последней,
как нам видится, школой отечественного литературоведения, созданной в ХХ веке а потому итоговой, завершающей его методологические искания.
Сколько
же существует точек зрения на литературные итоги ХХ века? К сожалению, не так
много, что может показаться достаточно странным. Еще десять или чуть более лет
назад яростно сокрушались идеологические концепции советского литературоведения,
но «новый взгляд» [2],
к которому, казалось тогда, так просто придти, не увенчал
литературно-критические итоги ХХ столетия. Из множества написанных за последние
десятилетия статей и книг авторитетная точка зрения на литературный процесс ХХ
века так и не сложилась.
Одно
из заблуждений рубежа 80–90-х годов было связано с тем, что ученые и критики не
поставили перед собой задачу выхода из прежней, сформированной в советском
литературоведении идеологической парадигмы, остававшейся практически неизменной
с середины 30-х годов. Она определялась теорией социалистического реализма,
формирование которой началось в 1932 году, после постановления ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций»,
а завершилось уже в 50–60-е годы, в работах А. Метченко, А. Овчаренко,
В. Иванова. Поэтому смертельная борьба против социалистического реализма
рубежа 80–90-х годов была, по сути дела, попыткой преодоления прежних, «тоталитарных»
идеологем, которые заменялись новыми, «демократическими» (Ю. Буртин, В. Лакшин,
В. Кардин, И. Золотусский, Н. Иванова). Если бы общественный
интерес к литературе и литературной критике не иссяк, то, возможно, «демократическая»
тенденция и смогла бы сформировать новые парадигмы, пригодные для описания
литературной истории с иной, например, эстетической — точки зрения. Этого, как
мы знаем, не произошло и «эстетическое» направление литературной критики не
сложилось.
Казалось
бы, русская литература ХХ века дает богатый материал и для продолжения традиции
философской критики — традиций Розанова, Н. Бердяева, Г. Федотова, И. Ильина.
Но и эта возможность не реализовалась: книги, сборники, статьи, семинары и
конференции, посвященные М. Булгакову, А. Платонову, Л. Леонову,
В. Набокову, позволив приблизиться к пониманию творческого и философского
наследия этих художников, не дали (как пока еще видится) оснований для
обобщений литературного пути в целом.
Следовательно,
не найдены еще те точки зрения, сопоставление которых дало бы возможность
приблизиться к пониманию смысла развития той сложной системы, которую являет
собой литература ХХ века.
Между
тем, поиски ее необходимы. Иначе невозможно осмыслить «странные» явления
литературной жизни ушедшего столетия. Одно из них —
существование литературы в русле трех «подсистем»: метрополии, диаспоры, «потаенной»
литературы (создававшейся «в стол» или же не пропущенной цензурой).
Каждая из них породила значимые литературные явления, но, скорее, вопреки
деформированным условиям литературной жизни. Между тремя ветвями литературы не
было естественного взаимообмена (или же он был весьма затруднен), творческого
взаимодействия, являющегося источником художественного развития.
В каждой из этих ветвей
неестественно складывались отношения в системе «читатель — писатель». «Потаенная»
литература почти не имела читателя, исключая «микронный» слой избранных,
получавших затертые страницы «самиздатовских» рукописей; читательский слой
диаспоры, рассеянной по всем континентам, тоже не создавал естественной
читательской среды, способной активно участвовать в собственно художественном
развитии литературы. Отношения же в метрополии выглядели еще более странно (что станет предметом нашего рассмотрения).
Истоки
подобных деформаций литературного процесса следует искать во внешних,
экстралитературных обстоятельствах.
В
предлагаемой статье предпринята попытка обратиться к
социокультурной ситуации, сложившейся с самого начала советского времени и в
корне изменившей отношения в системе «читатель — писатель». Подобный взгляд — с
точки зрения социокультурных процессов, обусловленных историческим взрывом 1917
года — может предложить новый в методологическом отношении взгляд на литературное
столетие.
Социокультурная
ситуация рубежа 10–20-х годов характеризовалась появлением на исторической
арене нового читателя. Его отношение к миру культуры, с которой он сталкивался
впервые, характеризовалось двумя взаимоисключающими, казалось бы, началами.
Необразованный, часто полуграмотный, он нес в себе, тем не менее, жажду знаний
и приобщения к культуре, от которой был оторван прежней социальной средой,
неграмотностью, невозможностью учиться. Но это, безусловно, позитивное его
качество дополнялось уверенностью в необходимости принципиально новой
литературы и культуры, призванной обслуживать именно его потребности. Оторванный от исконной социальной среды революцией, совершенной
якобы в его интересах, изменившей его положение, давшей ему иллюзию возвышения
над прежним миром и его достижениями, он воплощал особый тип сознания, полагая
себя высшим цензором культуры предшествующей, самым квалифицированным ценителем
культуры будущей, созданной для него, по его социальному заказу, и нес в себе
уверенность в неукоснительном праве диктовать свои литературные вкусы, не
имея для этого, в сущности, ни малейших оснований. Такой тип читателя прошел
через все периоды советской истории и реализовал себя и в письмах 20-х годов к
Зощенко, где указывал писателю конкретные объекты сатиры, и в открытых письмах
Твардовскому конца 60-х годов, где выражал свое несогласие с направлением «Нового
мира». Такой тип читателя предопределил и общую культурную ситуацию советского
времени, и характер литературного процесса.
Разумеется,
такой взгляд новой аудитории, вовлеченной социальными последствиями революции в
сферу культуры и литературы, не мог сложиться сразу, истоки его формирования
следует искать на рубеже столетий. Уже тогда в социально-философском и
литературно-критическом сознании утвердилась мысль о принципиальной новизне
культурной ситуации наступившего столетия в сравнении с веком предшествующим.
Эта новизна связывалась столь разными мыслителями, философами, художниками, публицистами,
как, например, В.И. Ленин, А.А. Блок, Д.С. Мережковский, с
появлением на исторической арене принципиально нового субъекта истории. Можно
было приветствовать его появление, как это делал Ленин, негодовать по его
поводу, как Мережковский, смиренно принимать его появление, жертвуя самим собой
и опытом предшествующей цивилизации, как Блок, но нельзя было отрицать, что он
несет с собой новые основания общественной и культурной жизни.
Этим
новым субъектом русской истории была масса. Ее представителем в общественной
жизни, культуре, искусстве, литературе был человек массы.
«Буря,
— это движение самих масс, — писал Ленин в 1912 году. — Пролетариат, единственный
до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые
поднял к открытой революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натиск
бури был в 1905 году. Следующий начинает расти на
наших глазах» [3].
Появление массы и человека
массы пророчествовал и А. Блок, утверждая в то же время готовность бросить
под ноги нецивилизованных варварских полчищ всю предшествующую
культуру, полагая крушение гуманизма исторической закономерностью и неизбежностью.
Новую
эпоху, эпоху ХХ века, Блок склонен был рассматривать как время противостояния
двух начал: гуманистического, личностно-индивидуального, и противоположного
ему, связанного с массой.
«Понятием
гуманизма привыкли мы обозначать прежде всего то мощное движение… лозунгом
которого был человек — свободная
человеческая личность. Таким образом, основной и изначальный признак гуманизма —
индивидуализм» [4].
Поэтому термин «гуманизм» в сложной системе философских понятий Блока мы можем
воспринять как обозначающий начало, связанное с выделением образованной
личности со сложной внутренней жизнью, вносящей свой вклад в культуру
человечества. Именно гуманизм как основание европейской культуры, оправдывающий
выделение личности из массы, осознание ею собственной
индивидуальности, осмысляется Блоком как главное направление европейской
истории и культуры — от позднего средневековья до конца ХIХ столетия. Но общая
историческая и культурная ситуация рубежа веков предстала в ином свете — как
переломный момент, трагичный для судеб культуры, основанием которой было
гуманистическое понимание самоценности личности — не столько ее прав и свобод,
сколько самой ее неповторимости и безграничности ее творческого потенциала. На
смену ей шла безличность массы.
«Движение,
исходной точкой и конечной целью которого была человеческая личность, могло расти и развиваться до тех пор, пока личность была главным
двигателем европейской культуры. Мы знаем, что первые гуманисты, создатели
независимой науки, светской философии, литературы, искусства и школы,
относились с открытым презрением к грубой и невежественной толпе. Можно хулить
их за это с точки зрения христианской этики, но они были и в этом верны духу
музыки, так как массы в те времена не были движущей культурной силой, их голос
в оркестре мировой истории не был преобладающим. Естественно, однако, что,
когда на арене европейской истории появилась новая движущая сила — не личность,
а масса, — наступил кризис гуманизма» [5].
В
этой закономерной смене субъектов исторического и культурного процесса Блок и
видит причину крушения гуманизма как основы современной цивилизации. Масса, по
его мнению, органически чужда гуманистического духа индивидуальности, поэтому
ее приход и господство приведет к краху традиционного устоя, ибо масса никогда
не проникнется цивилизацией. Но с появлением массы на исторической арене Блок
связывает надежду на появление некой новой культуры, т.к. масса, «варвары», могут
быть ее подсознательными хранителями. Отсюда смелое решение и наивная готовность
бросить под ноги надвигающейся варварской массе традиционную гуманистическую
культуру, предоставив ей, массе, быть творцом культуры новой.
Но
все же русская культурная элита рубежа веков воспринимали грядущее господство
массы как господство Грядущего Хама.
«Одного бойтесь, — пророчески восклицал Мережковский, — рабства и
худшего из всех рабств — мещанства и худшего из всех мещанств — хамства, ибо
воцарившийся раб и есть хам, а воцарившийся хам и есть черт — уже не старый,
фантастический, а новый, реальный черт, действительно страшный, страшнее, чем
его малюют, — грядущий Князь мира сего, Грядущий Хам» [6].
Но в работе Мережковского содержалась не просто анафема грядущему хаму.
Писатель попытался обосновать особенности его миропонимания, которым будет
обусловлено его грядущее царство, царство от мира сего.
В основе этого миропонимания, по Мережковскому, лежит столь ненавистный
ему «мертвенный позитивизм». «Все просто, все плоско.
Несокрушимый здравый смысл, несокрушимая положительность. Есть то, что есть, и
ничего больше нет, ничего больше не надо. Здешний мир — все, и нет иного мира, кроме здешнего. Земля — все, — и нет ничего, кроме земли.
Небо — не начало и конец, а безначальное и бесконечное продолжение земли. <...>
Величайшая империя земли и есть Небесная империя, земное небо, Серединное
царство — царство вечной середины, вечной посредственности,
абсолютного мещанства… Китайскому поклонению предкам, золотому веку в прошлом соответствует
европейское поклонение потомкам, золотой век в будущем. Ежели не мы, то потомки
наши увидят рай земной, земное небо, —утверждает
религия прогресса.
И в поклонении предкам, и в поклонении
потомкам, одинаково приносится в жертву единственное человеческое лицо,
личность безличному, бесчисленному роду, народу, человечеству — «паюсной икре,
сжатой из мириад мещанской мелкоты» (слова Герцена, цитированные Мережковским
чуть ранее и повторенные опять — М.Г.), грядущему вселенскому полипняку и муравейнику» [7].
Именно в потере индивидуальности и презрении к личности видит Мережковский
«лицо хамства, идущего снизу — хулиганства, босячества, черной сотни» [8]
— самое страшное из всех лиц Грядущего Хама, проявившихся в России.
Кто
же сей Грядущий Хам? Кто составляет массу, требующую
все эти жертвы? Народ? В статье «О назначении поэта» Блок говорит о двух
началах русского общества: народе и черни. Давая характеристику черни, он, сам
того не подозревая, характеризовал ту самую варварскую массу, с которой
связывал идею рождения новой гармонии. «Чернь требует от поэта служения тому
же, чему служит она: служения внешнему миру; она требует от него “пользы”, как
просто говорил Пушкин; требует, чтобы поэт “сметал сор с улиц”, “просвещал
сердца собратьев” и пр.» [9]
Здесь Блок как раз и определил основные черты массы, определил «физиологию» ее
отдельного представителя.
Человек
массы приходит в мир и легко и естественно располагается в нем, требуя для себя
максимально возможного комфорта. Возможность требовать и
диктовать — столь же неотъемлемая его черта, как и утилитаризм,
представления о том, что все блага мира, цивилизации, культуры имеют право на
существование постольку, поскольку удовлетворяют его потребности, но не сами по
себе.
Именно
этот массовый человек и заявил о себе на рубеже 10–20-х годов. Его именем был
совершен октябрьский переворот, ему была внушена мысль о социальной гегемонии
и, как следствие, о возможности быть творцом культуры и высшим судьей ее
прошлого и будущего. Этот пафос доминирует на протяжении 20-х годов — от идей
Пролеткульта о создании новой, с иголочки, пролетарской культуры, строительства
заводов на Красной площади как воплощении индустриальной эстетики до рапповского
призыва ударников и героев пятилетки в литературу. Массовый человек, осознавший
себя гегемоном, с радостью откликался на подобные призывы, вовсе не задумываясь
о собственной несостоятельности. Это оказалось возможным благодаря особому
психологическому складу, каким он обладал.
Психологический
потрет массового человека дал уже в 30-е годы
испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет. В целой серии его работ и, в первую
очередь, в статье «Восстание масс», он приравнивает массу к толпе, психологию
массы — к психологии толпы, и выделяет особый культурно-психологический тип —
тип человека массы. «Масса — это средний человек. <...> Это совместное
качество, ничейное и отчуждаемое, это человек в той мере, в какой он не отличается от остальных и повторяет общий тип. <...> В
сущности, чтобы ощутить массу как психологическую реальность, не требуется
людских скопищ. По одному-единственному человеку можно
определить, масса это или нет. Масса — всякий и каждый, кто ни в добре, ни в зле не мерит себя особой мерой, а ощущает таким же, “как и
все”, и не только не удручен, но доволен собственной неотличимостью. <...>
Масса — это посредственность... Особенность нашего
времени в том, что заурядные души, не обманываясь насчет собственной
заурядности, безбоязненно утверждают свое право на нее
и навязывают ее всем и всюду. <...> Масса сминает все непохожее,
недюжинное, личностное и лучшее» [10].
Масса, по мысли философа, обладает определенными свойствами поведения в
историческом пространстве: она плывет по течению, лишена ценностных ориентиров,
поэтому становится объектом любых, самых чудовищных политических манипуляций.
Ее энергия направлена не на творчество, а на разрушение. Массовый человек не
созидает, даже если силы его огромны. Все это дает возможность выделить черты «анатомии»
и «физиологии» человека массы. Это, во-первых, неограниченный нуждой рост
потребностей, на удовлетворение которых направлена вся современная техника со все возрастающими ресурсами, при этом потребности эти
носят исключительно материальный, но не духовный характер. Духовные потребности
человека массы сведены к минимуму. Во-вторых, полное отсутствие социальных
барьеров, сословий, каст, когда все люди узаконено
равны, заставляет человека массы любому другому человеку, принадлежащему
меньшинству, диктовать равенство с собой. О том, как подобное требование
человека массы воплотилось на русской почве 1920-х годов, писал в первой
редакции «Хождения по мукам» А.Н. Толстой: «На трон императора взойдет нищий в гноище и крикнет — “Мир всем!” И ему
поклонятся, поцелуют язвы. Из подвала, из какой-нибудь водосточной трубы
вытащат существо, униженное последним унижением, едва похожее-то на человека, и
по нему будет сделано всеобщее равнение». Толстой действительно уловил важную
грань общественных «массовых» настроений: право человека массы предложить обществу
всеобщую унификацию с собой выразилось в концепциях личности Пролеткульта и
ЛЕФа, именно с ними полемизировал Е. Замятин в романе «Мы».
Ортега
определяет некоторые черты психологического склада человека массы:
беспрепятственный рост жизненных запросов, ведущий к безудержной экспансии собственной
натуры, и врожденная неблагодарность ко всему, что сумело облегчить его жизнь и
дать возможность этим запросам реализоваться. В результате человек массы по
своему душевному складу напоминает избалованного ребенка. Его мирочувствование
определяется, “во-первых, подспудным и врожденным ощущением легкости и обильности
жизни, лишенной тяжких ограничений, и, во-вторых, вследствие этого — чувством
собственного превосходства и всесилия, что, естественно, побуждает принимать
себя таким, какой есть, и считать свой умственный и нравственный уровень более
чем достаточным. <...>
И массовый человек держится так,
словно в мире существует только он и ему подобные, а отсюда и его третья черта —
вмешиваться во все, навязывая свою убогость бесцеремонно, безоглядно,
безотлагательно и безоговорочно...” [11].
На
русской почве массовый человек не имел тех материальных благ, о которых
размышлял Ортега-и-Гассет. Но их отсутствие было компенсировано пропагандой
прав массового человека властвовать в мире и быть его
гегемоном, которая стала на первых порах государственной идеологией. Однако
отсутствие реально доступных материальных и культурных благ и усиленная
формирующейся идеологией претензия на обладание ими породила особую
агрессивность советского человека массы, желание добыть то, что принадлежит ему
по праву. Он обладал неукоснительными представлениями обо всем и был неспособен допустить, что может существовать иная позиция,
испытывал внушенную ему потребность судить, решать и выносить приговор.
Сформировался и пришел к власти новый тип человека, который не желает ни
признавать, ни доказывать правоту, а намерен просто навязать свою волю. Это
человек, утверждающий право не быть правым, право произвола.
О
грядущем владычестве человека массы уже со средины прошлого века заговорили
очень многие — имена Герцена или Достоевского, автора “Зимних заметок о летних
впечатлениях”, являются одними из наиболее заметных и
значимых. В Европе оно проявилось как страшное омещанивание
массы, как смена общечеловеческих ценностей буржуазными — в том смысле, какой вкладывали в это слово люди рубежа веков и какой выразил И. Бунин
в рассказе “Господин из Сан-Франциско”. Но только в России оно обернулось
крушением государственности и прежней культуры. Приход к власти человека массы
сопровождался русским бунтом, бессмысленным и беспощадным. “Заурядность, прежде
подвластная, решила властвовать. Решение выйти на авансцену возникло само
собой, как только созрел новый человеческий тип — воплощенная посредственность” [12].
Появление
на исторической арене нового субъекта привело к тому, что русская культурная
ситуация и русская литература, в частности, оказались определены в 20-е годы
столкновением двух разных начал: активно вытесняемой традиционной культуры и
новой псевдокультуры, которую пытался создать человек
массы. В результате этого столкновения сложилась ситуация, которую мы условно
назовем “культурным вакуумом”: сметя на своем пути культуру “гуманизма”, масса
не смогла что бы то ни было противопоставить ей.
Как
ситуация культурного вакуума отразилась на литературном процессе?
Появление
нового субъекта истории — массы и человека массы — изменило характер связей в
системе “читатель — писатель”. Старый читатель, воспитанный на классике
прошлого века или же на утонченной и изысканной культуре рубежа веков, ушел с
авансцены. Люди, принадлежащий этому слою
отечественной культуры, в большинстве своем оказались в эмиграции, полегли на
полях гражданской войны. Оставшиеся же, получив имя “бывшие”, вряд ли могли
сколько-нибудь заметно влиять на литературный процесс. Но появился новый
читатель, ставший в силу своего характера и мироощущения, о котором писал
Ортега, диктовать свои художественные вкусы писателю — так вошло в литературную
жизнь двадцатых годов понятие социального заказа.
Изменился
и писатель. Художники, сформировавшиеся до революции и определявшие направления
творческого развития первых двух десятилетий века, в основном разделили участь своей аудитории и оказались вместе с ней в
диаспоре, осознав себя не в изгнании, а в послании, гордо неся свою миссию
сохранения культурной традиции. Оставшиеся с неизбежностью должны были
воспринять социальный заказ нового читателя, как это сделал, например, А. Толстой,
первым вернувшийся из эмиграции, или же как пытался
это сделать М. Зощенко или Б. Пильняк, — или же замолчать. Но рядом с
ними появлялся новый писатель, как бы делегированный в литературу новой читательской
аудиторией. Такой литератор тоже оказывался в довольно сложном и двойственном положении:
с одной стороны, испытывая нехватку литературного и культурного опыта, он
стремился компенсировать его отсутствие хотя бы внешним, формальным приобщением
к традиции, какое, например, подразумевалось выкинутым рапповцами лозунгом
“учебы у классиков”. Результатом такой учебы явился романа А. Фадеева
“Разгром”. С другой стороны, такой писатель, выдвинутый и ангажированный
массой, приобщаясь к культуре, мог отдалиться от своей почвы и в перспективе
потерять связь с ней. Подобная опасность тоже, вероятно, ощущалась новым
писателем. Так появляется Демьян Бедный, не испытывающий дискомфорта от
отсутствия элемента художественности в своих произведениях, зато чутко
улавливающий социальный заказ и говорящий на одном языке со своим читателем,
уверенным в том, что именно это и есть язык литературы.
В
сложившейся ситуации художник оказался перед выбором собственной культурной
ориентации, которая захватывала буквально все сферы бытия — от политического,
литературно-эстетического, религиозно-нравственного — до бытового поведения. Он
оказался перед выбором как бы двух полярных моделей литературного и личного бытия:
либо следовать дореволюционной традиции, либо же принять новые нормы, пока еще
только складывающиеся, но во всем оппозиционные прежним, “элитарным”, “высоким”,
опирающимся на классическую традицию, переосмысленную ХIХ веком.
Размышляя
о русской социокультурной ситуации
XVIII века, Ю.М. Лотман говорил о поэтике бытового
поведения русского дворянина, утверждая, что определенные формы обычной,
бытовой деятельности сознательно ориентированы на нормы и законы литературы, т.е переживаются эстетически [13].
Каждодневная жизнь становится знаком литературного поведения. Это происходит
потому, что на русской почве в Петровскую и Екатерининскую эпоху сталкиваются
две культуры, несущие с собой два совершенно разных типа бытового и
литературного, культурного поведения. Одно из них — нормальное, естественное,
единственно возможное, несакрализованное. Ему не учатся, его нормы
воспринимаются человеком с детства, оно усваивается само, как бы автоматически,
как родной язык. Другое — торжественное, ритуальное, сакрализованное. Его
изучают как чужое, по правилам грамматики, так, как изучали в Петровскую эпоху
“Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от
разных авторов повелением его императорского величества государя Петра
Великого”. Эти два типа бытового поведения были обусловлены столкновением на
русской почве исконной национальной культуры и привнесенной Петром европейской,
которые воспринимались как цивилизованная и нецивилизованная. Положение
русского дворянина, если он хотел участвовать в делах государственных, было
достаточно трагичным: он стоял перед необходимостью усвоения нового и чуждого
ему как бы европейского типа поведения. С точки зрения Ю. Лотмана, бытовое
(и культурное, литературное) поведение становится семиотическим знаком
жизненной позиции, обретает свою грамматику.
Человек,
таким образом, оказывается перед выбором: он может следовать тому или иному
типу поведения, может на свой лад толковать тот или иной его вариант. В конце
концов, он имеет возможность совмещать оба варианта, что может обернуться как
комической, так и трагической стороной. Мало того, ситуация выбора предоставляет
человеку возможность найти свое амплуа бытового (и культурного, литературного)
поведения и утвердиться в нем. Амплуа получает семиотическую значимость, давая
возможность выразить себя и свою позицию в отношении к окружающему: приятия или
неприятия, презрения или снисхождения и т.п. Так в русской культуре
XVIII столетия формируется
несколько амплуа: богатырь (Петр, Потемкин), острослов, забавник и гаер
(Марьин, герой войны 1805, 1812 годов, умерший от боевых ран
но заслоненный от современников маской-амплуа), российский Диоген, новый
“киник” (Барков). Выбор амплуа открывал перед личностью возможность
собственного пути — хотя бы совмещая два амплуа, например, богатыря и гаера,
как это сделал Суворов.
Новая
русская литературная ситуация второго десятилетия ХХ века поставила человека (и
художника) перед той же проблемой выбора и самоопределения — выбора своего
амплуа. Это связано с тем, что социокультурная ситуация
XVIII столетия и первых
десятилетий ХХ века во многом зеркальна. С одной стороны, творческая личность,
сформировавшаяся в предреволюционную эпоху, с неизбежностью воспринимала нормы
литературного и литературно-бытового, салонного поведения рубежа веков с утверждаемой
им этикой и эстетикой, как свое, естественное, родное, то, чему не нужно
учиться, а привнесенные нормы человека массы — как варварски чуждое. С другой
стороны, как классово-чуждое воспринимал предшествующие нормы пролетарский писатель,
подчас нарочито отказываясь от них, порой тайно желая овладеть грамматикой
чуждого поведенческого бытового и литературно-культурного языка, что получало
иногда комически-эпатирующее звучание, как цилиндр Есенина или желтая кофта
Маяковского.
Иными
словами, литератор, принадлежавший как той, так и другой культуре, должен был
выбирать, и, определяя свой тип бытового и литературного поведения, он
неизбежно выбирал семиотически значимое амплуа. Социокультурная ситуация заставляла
его сделать этот выбор. Подобно театральному амплуа, по мысли Ю. Лотмана,
человек “выбирал себе определенный тип поведения, упрощавший и возводивший к
некоему идеалу его реальное, бытовое существование...
Такой
взгляд, строя, с одной стороны, субъективную самооценку человека и организуя
его поведение, а с другой, определяя восприятие его личности современниками,
образовывал целостную программу личного поведения, которая в определенном
отношении предсказывала характер будущих поступков и их восприятия” [14].
Разница состоит лишь в том, что, если люди XVIII века выбирали в качестве амплуа чаще всего персонажей поэмы
или трагедии, историческое лицо, государственного или литературного
деятеля, то в 20-е годы мы можем, скорее, говорить о социальных масках, ставших
литературными и литературно-бытовыми амплуа. Естественно, что в его выборе
проявлялась личностная и творческая сущность писателя. Проблема писательского
амплуа оказалась связана, в конечном итоге, с самоопределением художника в
новом культурном пространстве. Решение вопроса о выборе той или иной культурной
традиции или же размежевание с ней и формировало тип литературного и бытового
поведения творческой личности.
Однако
проблема самоопределения неизбежно ставила перед художником вопрос о
преодолении традиционного для русской интеллигенции комплекса вины перед народом.
Далеко не каждому участнику литературного процесса 20-х годов хватило зоркости,
подобно А.Блоку, различить в человеке массы не черты представителя народа, но
черни.
Амплуа
аристократа избрал для себя М. Булгаков. Подчеркнутое
внимание к изысканной одежде, элегантному костюму, воплощенные в повседневном
быту писателя, извечные мечты об обустроенном быте и вальяжном, свободном,
“профессорском” образе жизни, выпавшие лишь на долю его героев, профессоров Персикова
и Преображенского с поездками в Большой на “Аиду” ко второму акту — все это
указывало на совершенно осознанный выбор бытового поведения и своего литературного
пути. Такой тип поведения, по мысли Е. Скороспеловой [15],
давал возможность его герою профессору Преображенскому и его ученику доктору
Борменталю увидеть в Шарикове не народ, но чернь — и силой отстоять свой мир.
Прозрение и преодоление “комплекса вины” открывало один из путей поведения
творческой личности, по которому и шел Булгаков, даже
несмотря на попытки несостоявшегося компромисса с властью (пьеса “Батум”).
Амплуа
делегированного массой своего вооруженного представителя в литературе
добровольно принял на себя Вс. Вишневский. В
литературном процессе 20-х годов он сыграл роль матроса — “братка”,
приходящего на репетицию своих драм в тельняшке или матросской шинели и выкладывающего
на стол “маузер” — вероятно для лучшего восприятия актерами и режиссерами
творческих замыслов драматурга. Не имеет принципиального значения, был ли
действительно пистолет атрибутом творческого процесса создания спектакля — важна
легенда, подсказанная и сформированная принятым Вишневским амплуа.
Амплуа
еретика взвалил на свои плечи Е.Замятин, при этом еретический пафос сомнения в
утверждающемся “новом католицизме” был провозглашен и в публицистике, и в
художественном творчестве.
Рядом
с еретичеством в качестве жизненной позиции вставало отшельничество — амплуа
крымского отшельника А. Грина сказалось не только на его бытовом поведении,
на осознании того, что , “если выпало в Империи
родиться, лучше жить в глухой провинции, у моря” (И. Бродский), создавая
свой собственный романтический мир в отдаленной от столиц Феодосии.
Отшельничество сказывалось и на литературном поведении: сумев найти свою нишу в
литературе 20-х годов, Грин успешно создает вымышленный художественный мир,
становится романтиком, что тоже может быть воспринято как выражение личностной
позиции в предельно социологизированной литературной ситуации 20-х годов.
Амплуа
“мятущегося” избрал С. Есенин. Его цилиндр как претензия на салонный
аристократизм явно контрастировал со связями в ЧК через Якова Блюмкина. Невозможность
выбора своего пути, готовность отдаться “року событий”, утрата связи с миром
Деревни и явная недостаточность личных и социальных связей с культурой Города
делают личность Есенина фигурой трагической, что и подчеркивается его бытовым и
литературным поведением.
Конечно
же, нельзя не упомянуть амплуа крестоносца, огнем и мечом утверждающего новую
идеологию и литературу. Наиболее яркое свое воплощение она нашла в фигурах
рапповцев — “неистовых ревнителей” пролетарской идеологии — Л. Авербаха,
С. Родова, из писателей — Д. Фурманова и А. Фадеева. Их
оппоненты из “Перевала” Д. Горбов, А. Лежнев в той
историко-культурной ситуации попытались сыграть роль Дон-Кихотов [16].
В
середине 20-х годов положение массового человека, попытавшегося заявить свои
права в истории и культуре, изменяется и становится,
скорее, трагикомичным: его возможности реального улучшения своего жизненного
уровня все более обнаруживают иллюзорность, а претензии на господство — агрессивность.
Возникает ситуация самообмана человека массы, когда стремление главенствовать
во всех сферах социальной и культурной жизни, подогреваемое официальной
пропагандой, сталкиваются с реальной невозможностью осуществления. При этом
вина возлагается на внешние обстоятельства, а отнюдь не на отсутствие реальных
возможностей самого массового человека.
В
то же время меняется государственная политика в отношении к литературе — условной
вехой может служить постановление ЦК ВКП(б) от 18 июня
1925 года: литература оказывается объектом партийного строительства,
государственного созидания, творческого воздействия, культивирования нужного и
должного [17]. Слова
Маяковского “Я хочу, чтоб в дебатах потел Госплан” наполняются буквальным, а не
переносным смыслом. Превращение литературы в объект государственного созидания
формирует новые писательские амплуа.
Среди
них — амплуа официального писателя. Власть в лице Сталина осознает необходимость
для советской литературы крупного эпика, создателя нового эпоса и новой
мифологии. Столь же необходим и официальный поэт. На роль талантливейшего поэта
советской эпохи Сталин пробует Маяковского и Пастернака.
Маяковский
получает возможность сыграть эту роль только после смерти, когда и были
произнесены знаменитые слова Сталина о том, что Маяковский был и остается
талантливейшим поэтом советской эпохи. Своей смертью он как бы преодолел противоречие
между желанием стать крестоносцем, хотя бы ценой вступления в РАПП, и невозможность
сделать это в силу специфических черт характера, в первую очередь, в силу
больших индивидуалистических претензий — на собственное положение в литературе,
на поэтическое бессмертие. Его гибель явилась, вероятно, результатом этого противоречия
и одновременно формой его преодоления. Этим и обусловлена его как бы
“заслуженная” посмертная канонизация.
Пастернаку
удается отказаться от роли официального, парадного поэта, создателя новой
мифологии. В этом смысле крайне показателен телефонный разговор Сталина с
Пастернаком. Сталин ищет мастера-поэта, спеца,
умельца, которому можно заказать эту роль, заставить взять это амплуа. Приняв
отказ Пастернака, он спрашивает, мастер ли — Мандельштам. Поразмыслив минуту,
его собеседник дал отрицательный ответ, поняв смысл слова “мастер” и полную
неспособность Мандельштама сыграть роль такого “мастера”.
Иначе
обстояли дела с создателями крупных эпических форм. Необходимость в красном
Льве Толстом была удовлетворена А Толстым — власть, по
остроумному замечанию А. Жолковского, получила желаемое лишь с небольшой
перестановкой инициалов. Эту же роль навязывали и Горькому, который, участвуя в
формировании парадного фасада новой культуры своей публицистикой и
организационной работой, так и не смог художественно осмыслить
послереволюционную действительность.
Но
в это время появляются амплуа, существование которых в литературе не приветствуется.
Таково, например, амплуа юродивого, взятое А. Платоновым. Юродство давало
возможность говорить правду в необычной, комической, гротесковой манере,
принимая и одобряя — не принимать и не одобрять,
соглашаясь — не соглашаться. Верх и низ, сакральное и профанное менялись
местами в “Чевенгуре” и “Котловане”, обнажая “юродивый коммунизм” русской души,
претворяя высокий религиозный пафос в смехотворное паломничество за мощами Розы
Люксембург, обращая устремление вверх строителей дома
новой жизни в движение вниз, в котлован, в могилу.
Платонов
показывает, сколь трагично положение массового
человека, оказавшегося в ситуации самообмана. Его персонажи
дезориентированы в культурном пространстве эпохи: мир дан вне традиционных
культурных опосредований, что лишает платоновского персонажа представлений о
верхе и низе, добре и зле, прекрасном и безобразном, трагическом и смешном.
Человек воспринимает действительность как лабиринт, из которого он тщетно
пытается найти выход. Это мир слепцов без поводыря: мир
без религии, без нравственного начала.
Платонов,
будучи выразителем общекультурной ситуации 20-30-х годов, показывает, что
происходит с человеком массы, когда предшествующая культура сметена. Масса
отменяет культурные ценности и ориентиры, на которые может опереться личность и
которым она может следовать. Их суррогатом становится “классовая” идеология,
выраженная в официальных государственных лозунгах и лишающая человека здравого
понимания своих поступков. Воплощение этой идеологии герои находят в коммунизме
Чевенгура. Так Платонов приходит к главному предмету изображения в своем
творчестве — “юродивому коммунизму русской души”: “Тут целый коммунизм лежит в
каждой душе и каждому хранить его охота”, — скажет один из героев “Чевенгура”.
Коммунизм
и революция — понятия трудноопределимые для героев Платонова. Что такое,
например, воздух Чевенгура, воздух коммунизма, от которого умер только что
рожденный ребенок? Ведь именно это приводит Копёнкина к окончательному разочарованию
в Чевенгуре и построенному там коммунизму. Так же трудно определить и врагов:
тот же Копёнкин сечет саблей “вредный воздух” и определяет врагов по цвету
глаз: “свои имели глаза голубые, а чужие — чаще всего черные и карие,
офицерские и бандитские; дальше Копенкин не вглядывался”. Человек полностью дезориентирован
в культурном пространстве.
Масса
отменяет религию — поэтому так смехотворен высокий религиозный пафос Копёнкина
с его паломничеством за мощами Розы Люксембург. Потому слепы герои Платонова в
неразличении жизни и смерти, в стремлении свести их к жизни и смерти тела.
Концентрация героев на теле, их антиэстетический эротизм или же стремление
сохранить тело после смерти — следствие неспособности постигнуть то, что
постигает религиозное сознание: мир иной. Человек оказывается беспомощным перед
бытийными вопросами. Единственная возможность сохранения связи мира живых и
ушедших — не в глубинном духовном опыте обращения к Богу, но в поисках общения
с любимым человеком через его могилу.
А. Платонов
судьбой своих героев показал трагизм человека, оказавшегося в ситуации
культурного вакуума. Амплуа юродивого давало ему возможность, утверждая свою
лояльность, не идти на компромисс. В то же время, для многих современников
Платонова компромисс мыслился не как проявление слабости и капитуляция, но как
возможность разрешить традиционный для русского интеллигента комплекс вины перед
народом. Подобная позиция была тупиковой и вела к
непреодолимому творческому кризису.
Именно
такой вариант творческого поведения продемонстрировал М. Зощенко.
В рассказах начала 20-х годов героем Зощенко стал человек с размытыми
социальными связями, живущий в своем микромире и желающий сделать именно на
этот микромир “всеобщее равнение”, как говорил один из героев А. Толстого —
т.е. перед нами как раз и предстает классическое воплощение “человека массы”,
который принес с собой, по словам Ортеги, “внеличностное сознание,
неспособность управлять собой, готовность быть послушным
материалом манипулирования”. Столкнувшись с новыми, незнакомыми ранее формами
культуры и быта — от театра, ставшего вдруг доступным, до лотереи и
общественной бани — герой оказывается в ситуации “культурного вызова” — и не
может на него ответить.
Рассказы
начала 20-х годов фиксируют трагизм положения человека массы, оказавшегося в
совершенно новых условиях культурной жизни и в новой социальной роли — роли
человека, от которого, вроде бы, требуется участие в новых формах социального
бытия. Поход в театр, мотивированный либо случайной встречей
со знакомыми, либо же полученными на службе билетами, оборачивается не
катарсисом, а мучительным переживанием крайне неприятной бытовой ситуации: то
герой не может снять с себя пальто, потому что на нем нет пиджака, а лишь
ночная рубашка с крупной шинельной пуговицей на вороте (“Прелести культуры”) то
проблемой надкушенного пирожного (“Аристократка”). Эти мелкие бытовые
неприятности обретают эпический масштаб и заслоняют
театральную сцену. Любой контакт с социальным миром неизбежно приводит героя
Зощенко к обороне — он сражается то за утерянную калошу, то за не купленный
трамвайный билет. Даже благоприятный, казалось бы, случай — лотерейный выигрыш —
оборачивается жизненной катастрофой и разрушением всех личностных связей (“Богатая
жизнь”). Герой Зощенко имеет удивительную способность обернуть любое благоприятное
или же просто нейтральное событие собственной жизни против себя. Он воплощает
самые характерные черты человека массы: видит именно себя центром вселенной, к
себе сводит и в себе решает все мелкие бытовые
проблемы, которые воспринимает как глобальные и бытийные; то же, что не имеет к
нему прямого касательства, просто не замечается. Так формируется комическое
несоответствие между мелкостью и ничтожностью деталей, на которых
сконцентрировано сознание героя, и той роли, которую потерянная калоша или
надкушенное пирожное играют в его жизни.
Будучи
не в состоянии консолидироваться со своим героем хотя бы в силу принципиально
иного культурного опыта, воспитания, образования, творческого дара, Зощенко,
тем не менее, понимал, что именно человек массы, сознание которого он сделал
предметом изображения, претендует на роль главного действующего лица истории.
Но осознавал он также и полную неготовность своего героя к ней. Это
противоречие и осмыслил Зощенко, представив своего героя в рассказах начала
20-х годов в сатирическом ключе. “Маленький человек”, пытающийся навязать миру
культурному и социальному свою меру вещей, являл собой зрелище отталкивающее.
Но помимо сатирического пафоса отрицания в рассказах писателя проявляется мотив
сострадания к маленькому человеку. Противоречие ничтожности — и претензии на
значительность; мизерности интересов — и осознания их как общезначимых; мелкого
быта — и восприятия его как бытия несет и оттенок трагического, который делает
объяснимым мотив авторского сопереживания герою: наряду с неприятием своего
персонажа писатель и сочувствует, и соболезнует ему.
Творческая
эволюция Зощенко обусловлена эволюцией его отношения к своему герою. Его
персонаж — человек массы — не менялся в силу отсутствия у него внутреннего
потенциала развития; менялся писатель, со все большей
и большей симпатией вглядываясь в черты своего героя и находя все больше и
больше оправданий для него. В середине 20-х годов в его рассказах все чаще
звучит мысль о прямом сочувствии “рабочему человеку”, о его желании вступиться
за него. “Человека массы” Зощенко воспринимает уже не как “маленького
человека”, но именно как “рабочего человека”, как бы признавая обоснованность
его претензий занять господствующее социальное положение в новом обществе.
Это
оправдывало в глазах писателя и претензию его героя стать творцом новой
культуры. В этом смысле его позиция, вероятно, была близка мироощущению Блока,
осознававшего гибель “культуры гуманизма” под ногами варварских полчищ, но видевший же в них творцов новой культуры. Поэтому
с середины 20-х годов творческая позиция писателя постепенно трансформируется.
Зощенко
все реже и реже передоверяет свой монолог герою, но находит образ
повествователя, взявшего и добросовестно исполняющего социальный заказ массы и
человека массы. Образ этого повествователя и есть воплощение литературного
амплуа Зощенко. Позиция героя и повествователя сближаются, писатель постепенно
начинает врастать в маску человека массы, как бы парадоксально сродняется с
ним, начинает говорить его языком и мыслить его
категориями. С другой стороны, он прекрасно осознает непреодолимую дистанцию
между собой, представителем навсегда ушедшей культуры, и тем, что пытается
создать человек массы. Врастая в душу автора, он заставляет его мыслить своими
категориями. Поэтому повествование во второй половине 20-х годов, в
“Сентиментальных повестях”, например, ведется уже от лица литератора, социально
близкого своей аудитории. Так происходит обретение маски-амплуа, снять которую
писатель так и не смог. Это амплуа Пролетарского Писателя.
Это
был осознанный шаг навстречу своему читателю и герою, которому вовсе не нужен
был традиционный литератор, обремененный всем запасом “культуры гуманизма”, но,
напротив, писатель, способный понять драму утерянной калоши и надкушенного
пирожного — и искренне сопереживать ей. Но масса не могла выдвинуть из своих
рядов и такого литератора. Тогда навстречу ей сделал шаг Зощенко — художник,
воспитанный на образцах истинной культуры, но отрекающийся от них во имя
сближения со своим читателем.
Зощенко
не смог избегнуть традиционного для русского интеллигента соблазна растворения
в массе, подчинения себя ей. Он сознательно отказывался от своего языка, от
своей культуры, постепенно переходя на язык своего героя. Творческая
эволюция Зощенко может быть представлена как постепенное уменьшение дистанции
между автором и героем, как путь от насмешки и иронии в отношении к человеку
массы, попавшему, например, в театр и не увидевшему того, что было на сцене, к
постепенному осознанию того, что его язык, его “наивная философия”, его взгляд
на мир тоже имеют право на существование — и приятию своего героя. Но
так как его герой полагал, что только его-то взгляд на мир и является
единственно возможным, то писатель невольно согласился с ним, как бы последовав
призыву Блока безоглядно пожертвовать культурой гуманизма. Зощенко своей
эволюцией уже 30-х годов показал, к чему приводит литературу и культуру в целом
провозглашенное Блоком крушение гуманизма. Для творческой личности оно
оборачивается отказом от самого себя, отречением от собственной культуры.
Литературное амплуа конструируемого и как бы пародируемого Пролетарского
Писателя прочно срослось с творческой личностью, приведя к безысходному
творческому кризису 30-х годов.
“Я пародирую теперешнего интеллигентского писателя, которого, может
быть, и нет сейчас, но который должен бы существовать, если б он точно выполнял
социальный заказ не издательства, а той среды и той общественности, которая
сейчас выдвинута на первый план...” [18].
Но драма Зощенко состояла в том, что он пародировал сам себя, т.е. и был
“интеллигентским” писателем, пытавшимся как можно более точно выполнить
социальный заказ человека массы. Поэтому пародийной стала сама ситуация, в
которой оказался Зощенко; пародийно выглядит положение человека культуры,
пытающегося на ее языке говорить о бескультурье; как пародия воспринимается литературная
речь, переставшая быть литературной; пародийно воспринимается сознание человека
культуры, подчиненное сознанию человека массы. Само амплуа, выбранное Зощенко,
не могло не восприниматься как пародийное.
Это
амплуа с неизбежностью поставило Зощенко перед тем же вопросом, что и человека
массы: вопросом взаимоотношений с прежней культурой. И решил он его в точном
соответствии с полученным социальным заказом — жертвуя собой и отказываясь от
предшествующей культурной традиции.
Этот
пафос с наибольшей полнотой выражен в “Голубой книге” — своего рода
адаптированной энциклопедии всей предшествующей человеческой цивилизации. В
качестве творческой задачи выступает здесь стремление выполнить полученный социальный
заказ — дать совокупность неких культурных ценностей, игнорируя всю накопленную
столетиями традицию их обобщения, осмысления, передачи в цепи человеческих поколений.
Повествователь
“Голубой книги”, пролетарский писатель первой половины 30-х годов, амплуа которого воплотил в литературе Зощенко, видит свою
задачу в смещении исторического факта, в утверждении неточности, стирании
культурного контекста во имя простоты и доступности этого факта своему
читателю, уверенному в том, что если он не владеет культурной памятью, то она
лишена смысла. Работа с источниками литературно-исторического, философского,
энциклопедического плана [19],
которыми, естественно, пользовался писатель, сводилась к его искажению и
смещению под углом зрения, наиболее близким его аудитории; неточность в стала художественной задачей
писателя. Ракурс этой неточности обусловлен попыткой дать
факт, скажем, европейской литературной истории в контексте реалий, доступных
массовому сознанию 20-х годов: «Для примеру такой
крупный сочный сатирик — писатель-попутчик Сервантес. Правую руку ему отрубили.
<...> Другой крупный попутчик Данте. Того из страны выперли
без права въезда. А Вольтеру дом сожгли”. Сервантес и Данте в качестве попутчиков,
Вольтер без права въезда — такое восприятие истории как бы санкционировало требование
человека массы видеть все сквозь собственную призму, мерить давно прошедшее
аршином собственного политического, бытового, культурного опыта — и полагать
эту мерку единственно объективной и возможной.
“Я
родился в интеллигентной семье, — писал Зощенко. — Я не был, в сущности, новым
человеком и новым писателем. И некоторая моя новизна в литературе была целиком
моим изобретением”. Думается, что эта новизна обернулась объективной невозможностью
отказаться от культуры и остаться писателем — разве что Пролетарским Писателем.
Эта объективная невозможность и привела его к творческому кризису 30–50-х
годов, первым знаком которого стала “Голубая книга”, а кульминацией — “Возвращенная
молодость”. Противоречивое отношение к своему герою в начале творческого пути
(злая ирония и одновременно сочувствие) сменилось со временем приятием его. Постепенная
утрата дистанции между автором и аудиторией обернулась сознательным отказом от
культуры, забвением того, что писатель все же родился в “интеллигентной семье”
русской культуры и генетически принадлежит ей, что кровь Гоголя и Достоевского
течет в его жилах, что в его голосе звучат голоса создателей “Шинели” и “Бедных
людей”.
Но
маленький человек, обернувшись уже в ХХ веке человеком массы, потребовал
полного подчинения себе писателя, испытывающего к нему симпатию и сострадание —
и дал ему свой социальный заказ на Пролетарского Писателя. Зощенко взял этот
заказ, сделал его своим литературным амплуа, которое со временем стало его
писательской и личностной сутью. Маска стала лицом. Заговорить своим
собственным голосом Зощенко так и не смог. И если в начале 20-х годов
спасительная ирония определяла дистанцию между автором и героем, то утрата ее привела к тому, что герой Зощенко, как бы вытеснив
своего создателя, сам стал писателем, заставив своего литературного творца
говорить чужим голосом, забыв свой.
Так выглядели два варианта творческого поведения художника, отношения которого с новой аудиторией складываются более сложно, чем простое приятие или неприятие. Их судьба определялась границами компромисса, который они могли себе позволить. Характер этого компромисса, перед необходимостью которого оказывалась творческая личность, во многом определил специфику литературного процесса нашего периода.